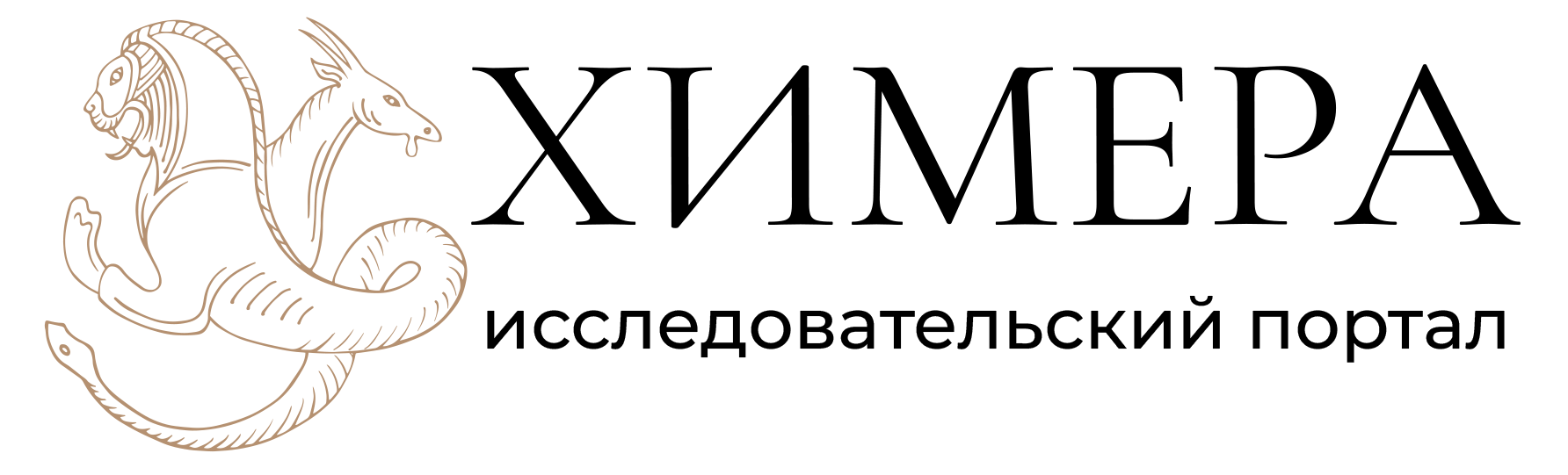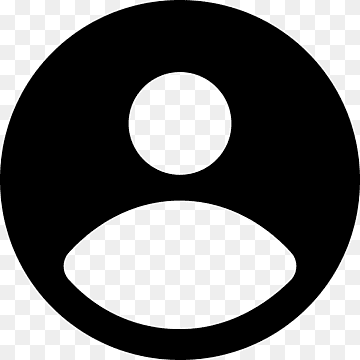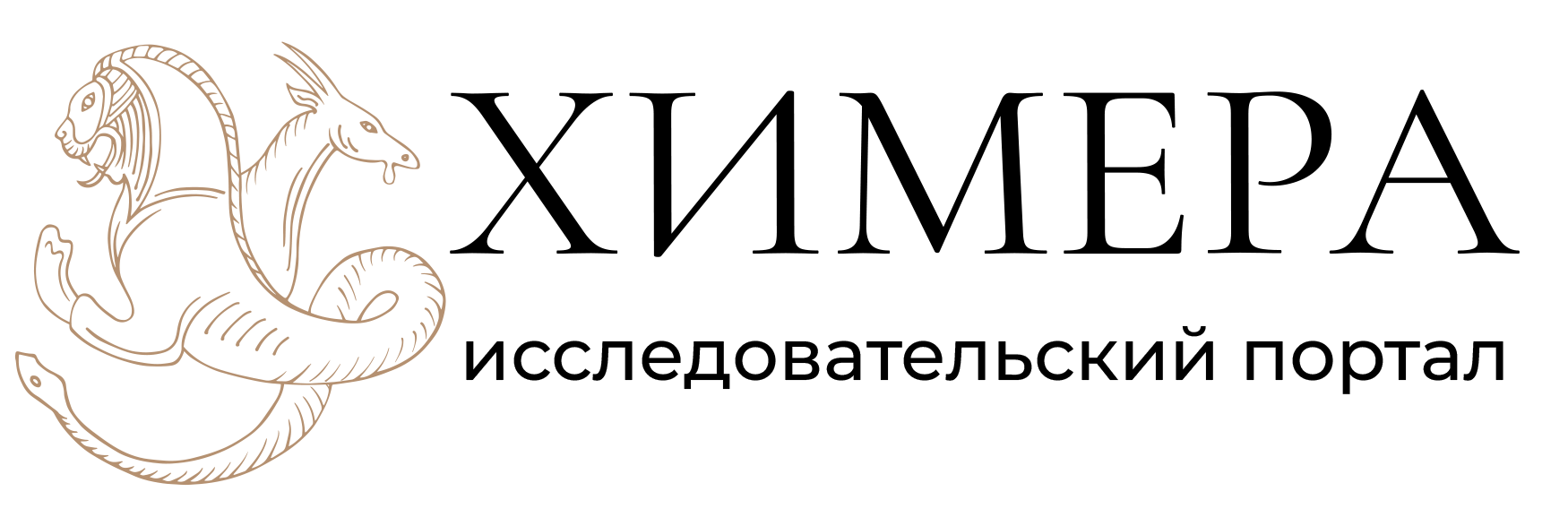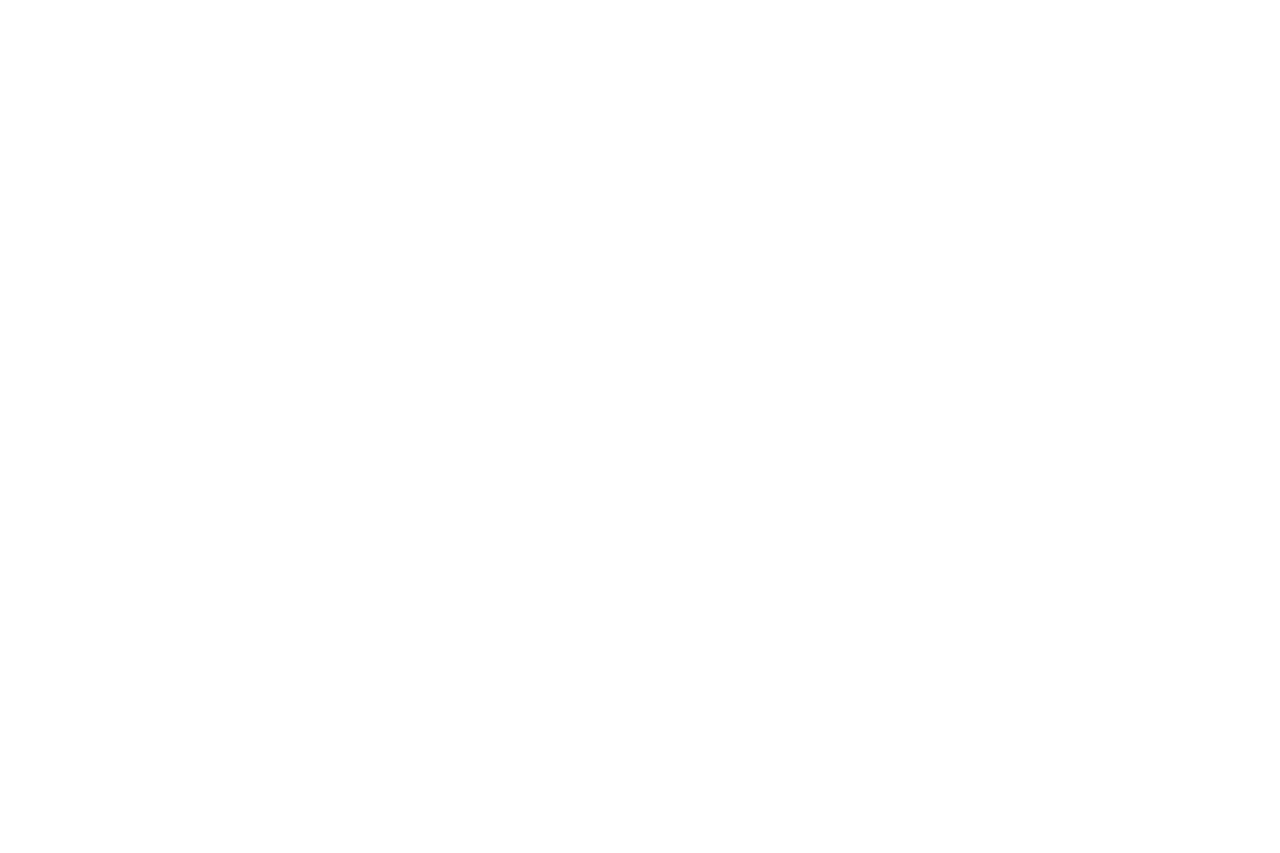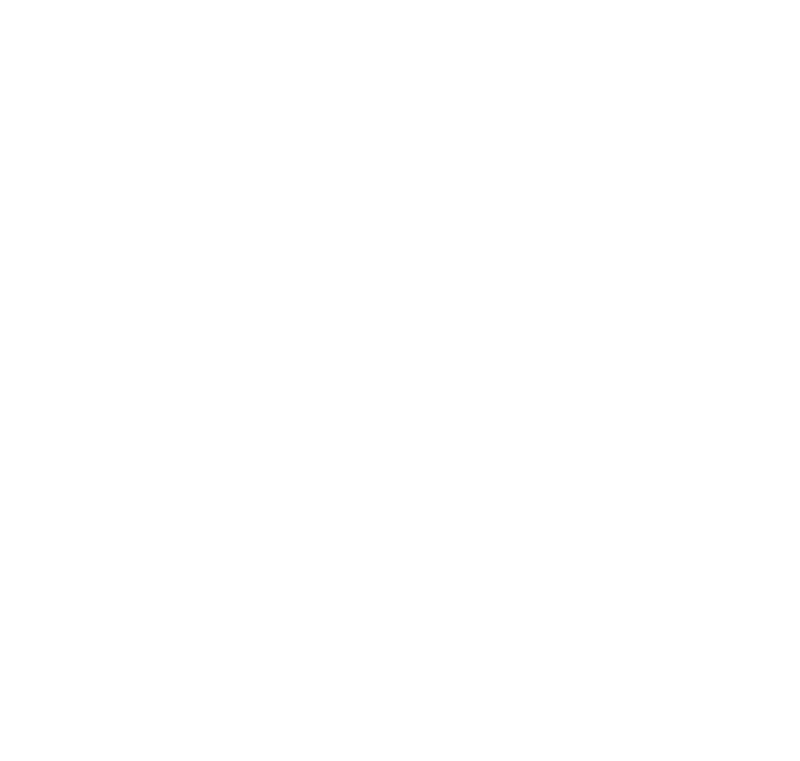Кербер
Звук, утроенный
Тройною пастью, даже и блаженным был
Теням ужасен.
Сенека (Sen. Herc. fur. 795–797)
Первое упоминание о нашем монстре мы находим у Гомера в «Илиаде» (Hom. Il. XVIII 367–368). Однако там он ещё не называется по имени, пока это просто пёс ужасного Аида (κύνα στυγεροῦ Ἀΐδαο). Имя пёс преисподней обретает в «Теогонии» Гесиода (Hes. Theog. 310), оттуда же мы узнаём, что он появился на свет в результате союза великана Тифона и полунимфы-полузмеи Ехидны. Гесиод говорит про Кербера, что это страшный видом, медноголосый, кровожадный и нагло-бесстыдный адов пёс (Hes. Theog. 310–312, пер. В.В. Вересаева). Он дружелюбно встречает умерших, которые только попали в царство Аида, но никого не выпускает обратно:
С злою, коварной повадкой: встречает он всех приходящих,
Мягко виляя хвостом, шевеля добродушно ушами.
Выйти ж назад никому не дает, но, наметясь, хватает
И пожирает, кто только попробует царство покинуть
Мощного бога Аида и Персефонеи ужасной.
(Hes. Theog. 769–774, пер. В.В. Вересаева)
Правда, некоторые специалисты предполагают, что число «сто» могло быть использовано просто в качестве обозначения множества или же включало в себя ещё и головы змей из гривы Кербера, о которых говорят Аполлодор, Вергилий, Сенека и Гораций (Apollod. Bibl. II. V. 12; Verg. Aen. VI. 419; Sen. Herc. fur. 785–786; Hor. Carm. III. 11. 17–18).
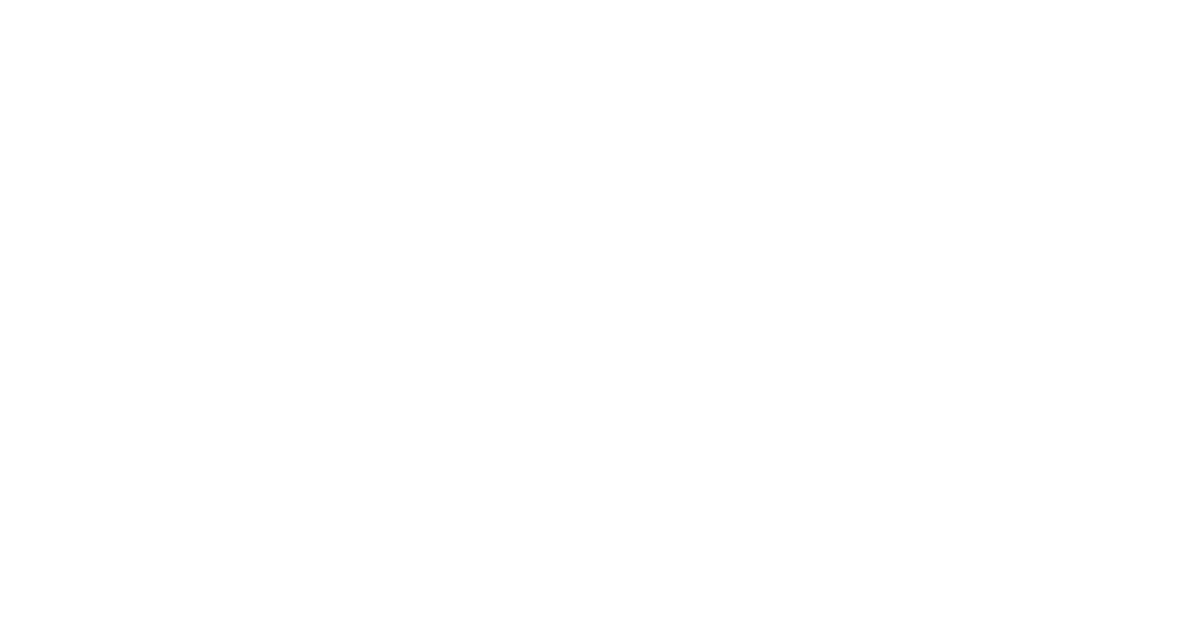
Колоннообразный кратер. Аттика. 580–530-е гг. до н.э.
Национальный музей вилла Джулия
Средневековые авторы также оставили некоторые размышления об образе Кербера. Уже в позднеантичный период упомянутый комментатор Вергилия Сервий писал, что имя этого чудовища неслучайно происходит от слова «κρεοβόρος», пожирающий плоть, поскольку Кербер мог быть олицетворением земли, поглощающей трупы (Serv. A. 6.395). Позже, примерно на рубеже V–VI вв., Фульгенций представил Кербера как аллегорию трёх источников человеческих раздоров — природы, причины и случайности, или трёх возрастов — младенчества, молодости и старости (Fulg. Myth. 1.6). Кроме того, по замечанию Второго и Третьего мифографов Ватикана (ок. XI–XII вв.), у Кербера именно три головы, поскольку он является таким же знаком отличия Плутона, как трёхконечная молния Юпитера и трезубец Нептуна (SecondMyth. Vat. 3; Third Myth. Vat. 6.22). Третий мифограф добавляет, что, если считать Кербера олицетворением земли, то другим возможным объяснением его трёхголовости может быть трёхчастность мира, состоящего из Азии, Африки и Европы (ThirdMyth. Vat. 6.22).
В произведениях изобразительного искусства, как и в текстах древних авторов, Кербера тоже представляли по-разному. Его первое известное изображение появляется в первой четверти VI века до н.э. на ныне утраченном скифосе из Аргоса. На прорисовке росписи можно увидеть, что у Кербера всего одна голова — это довольно редкий вариант его иконографии, мы знаем совсем немного подобных примеров, один из них — метопа храма Зевса в Олимпии.
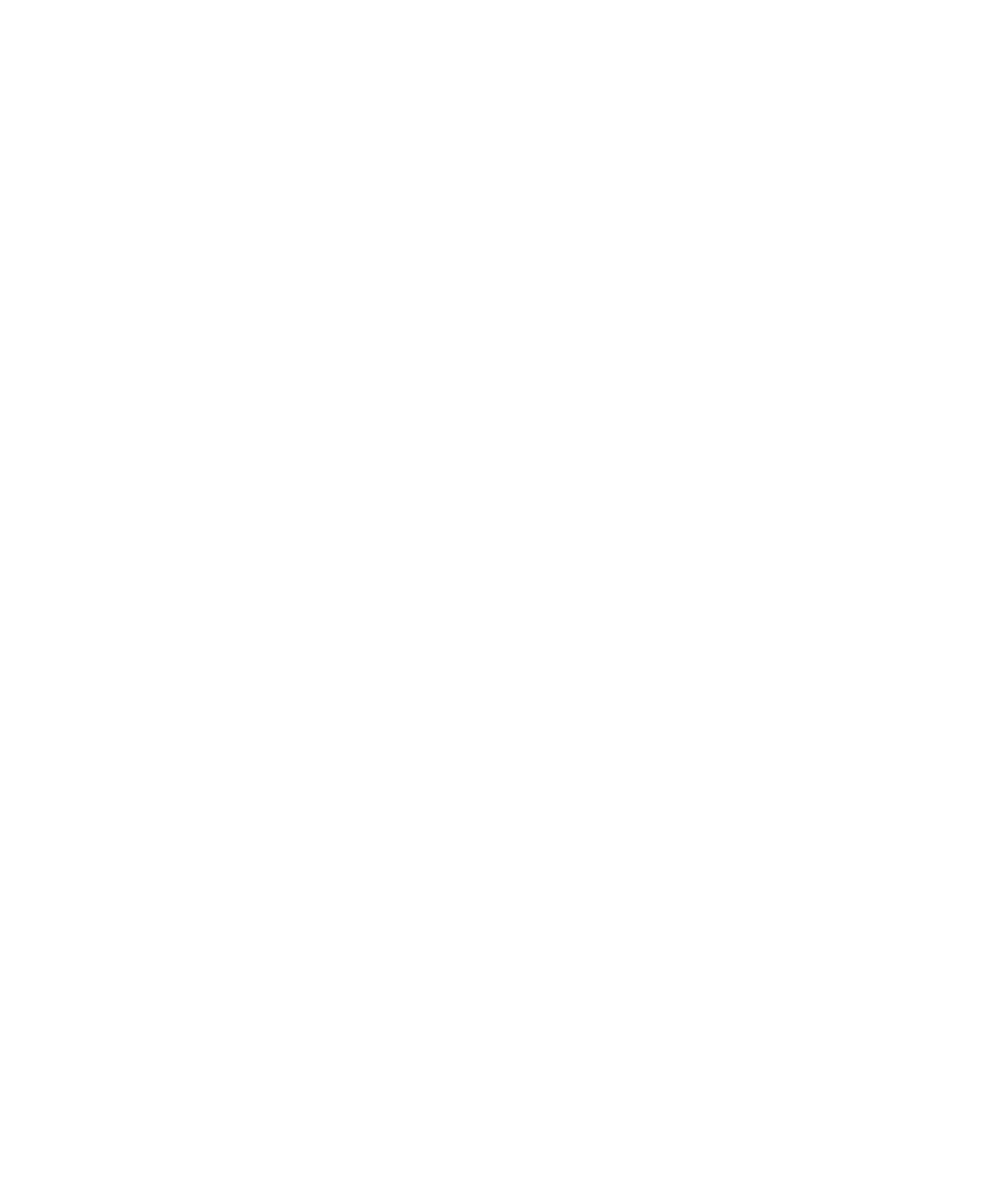
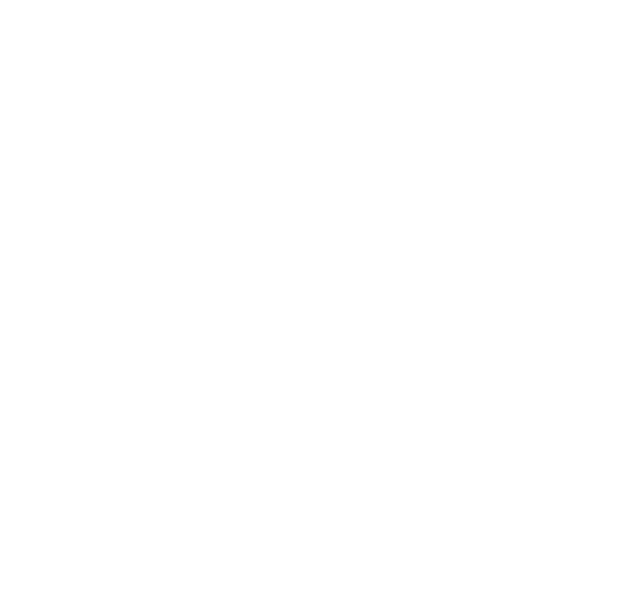
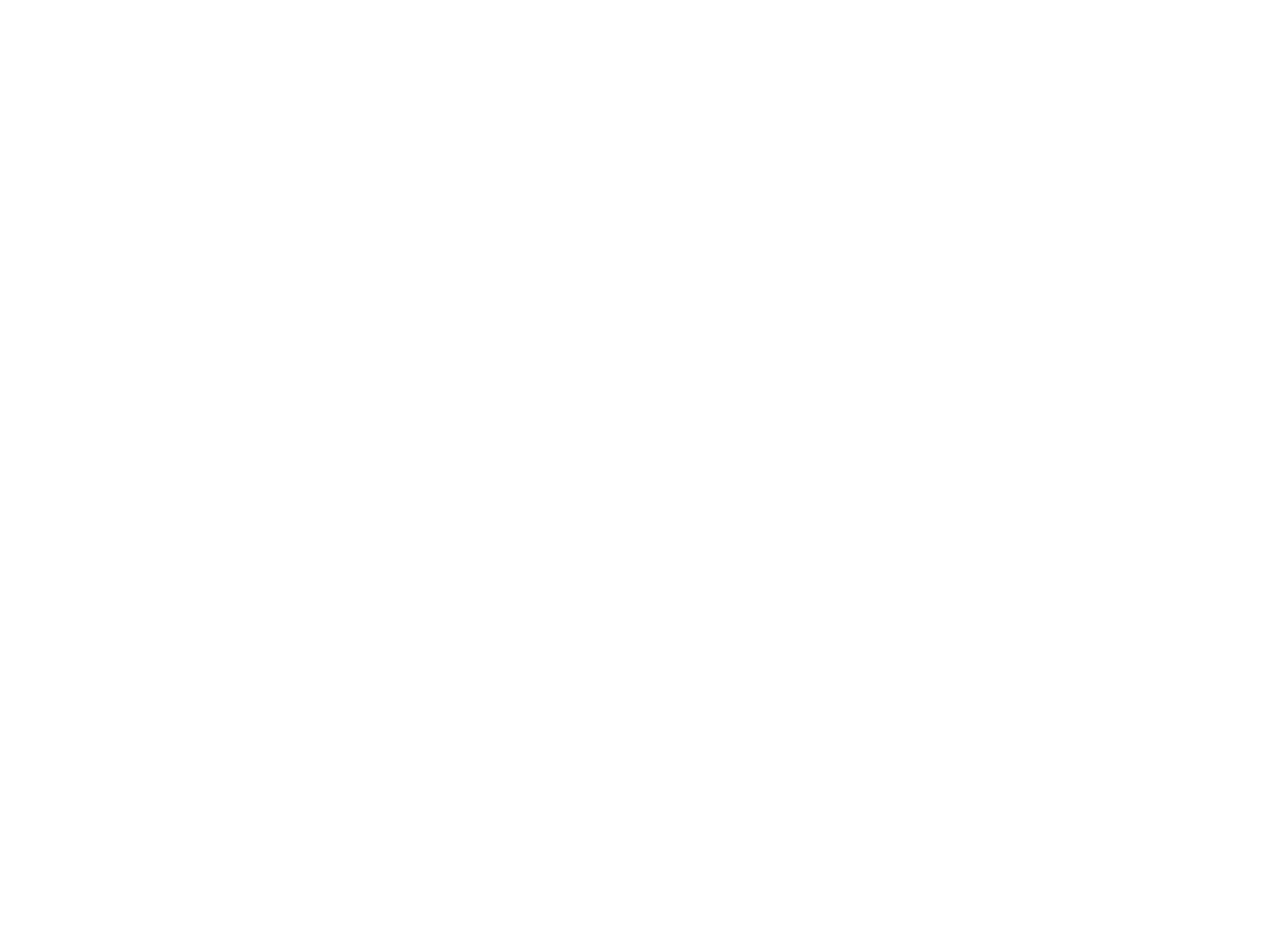
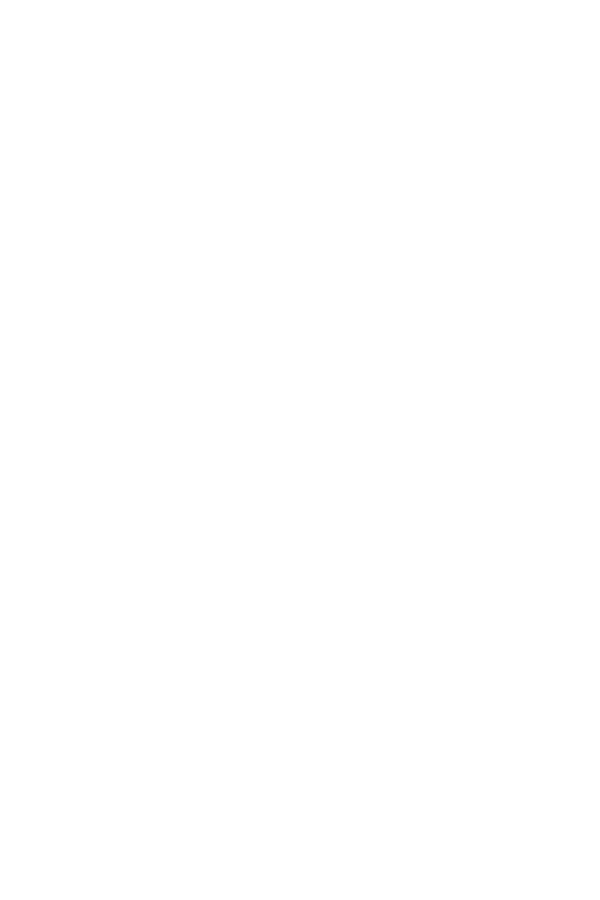
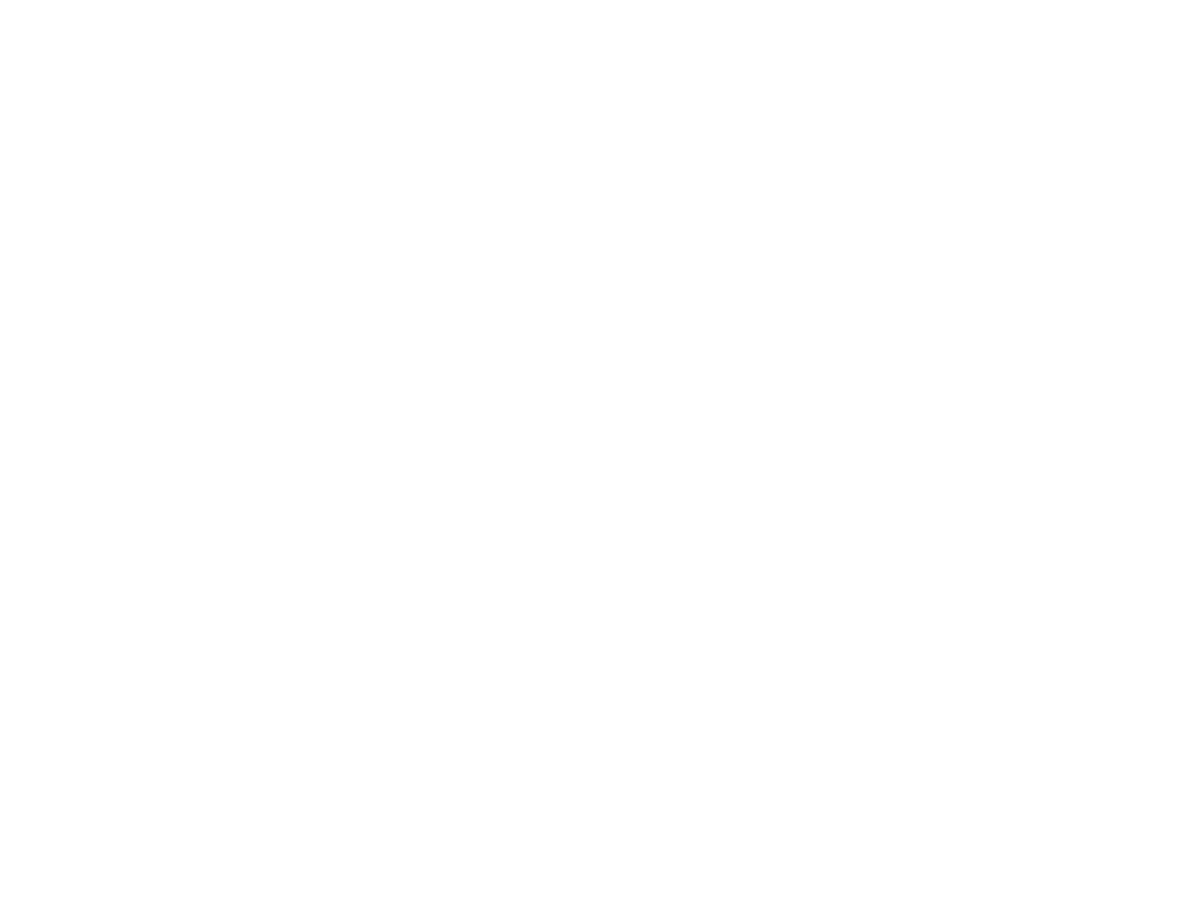
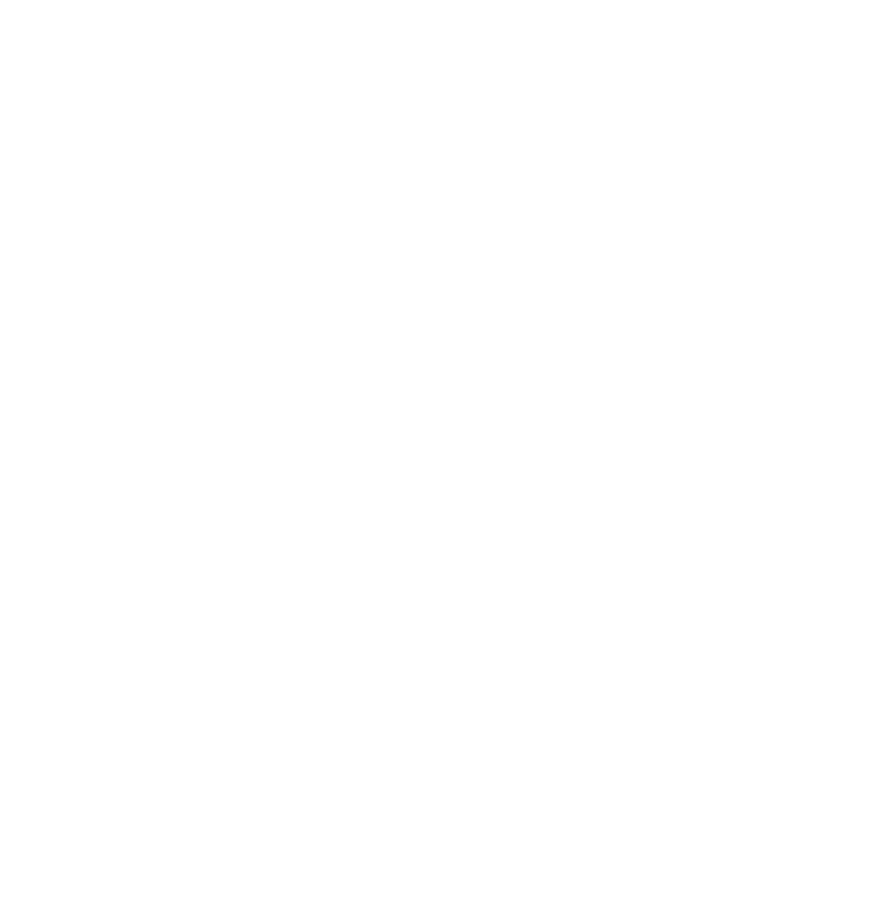
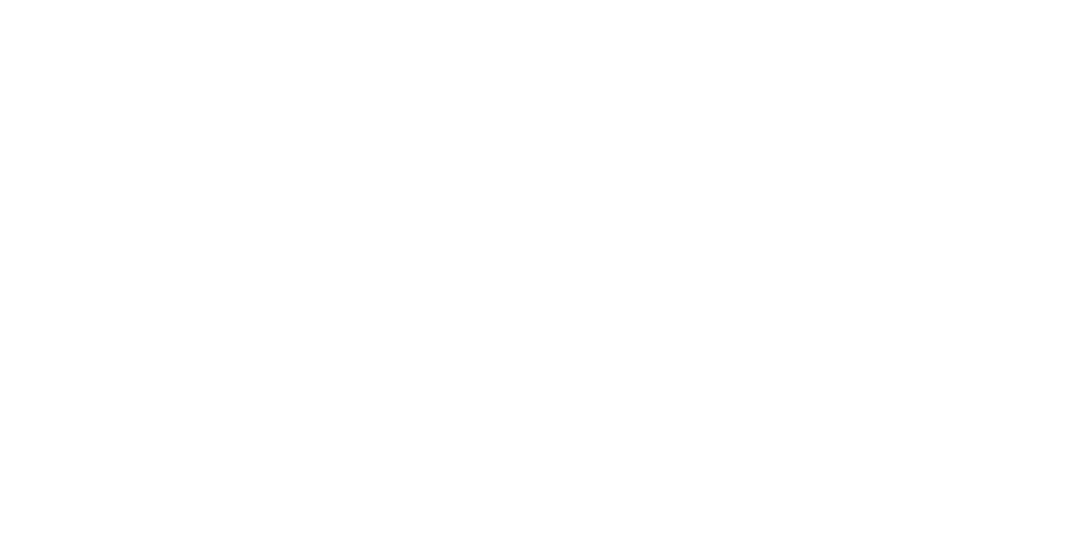
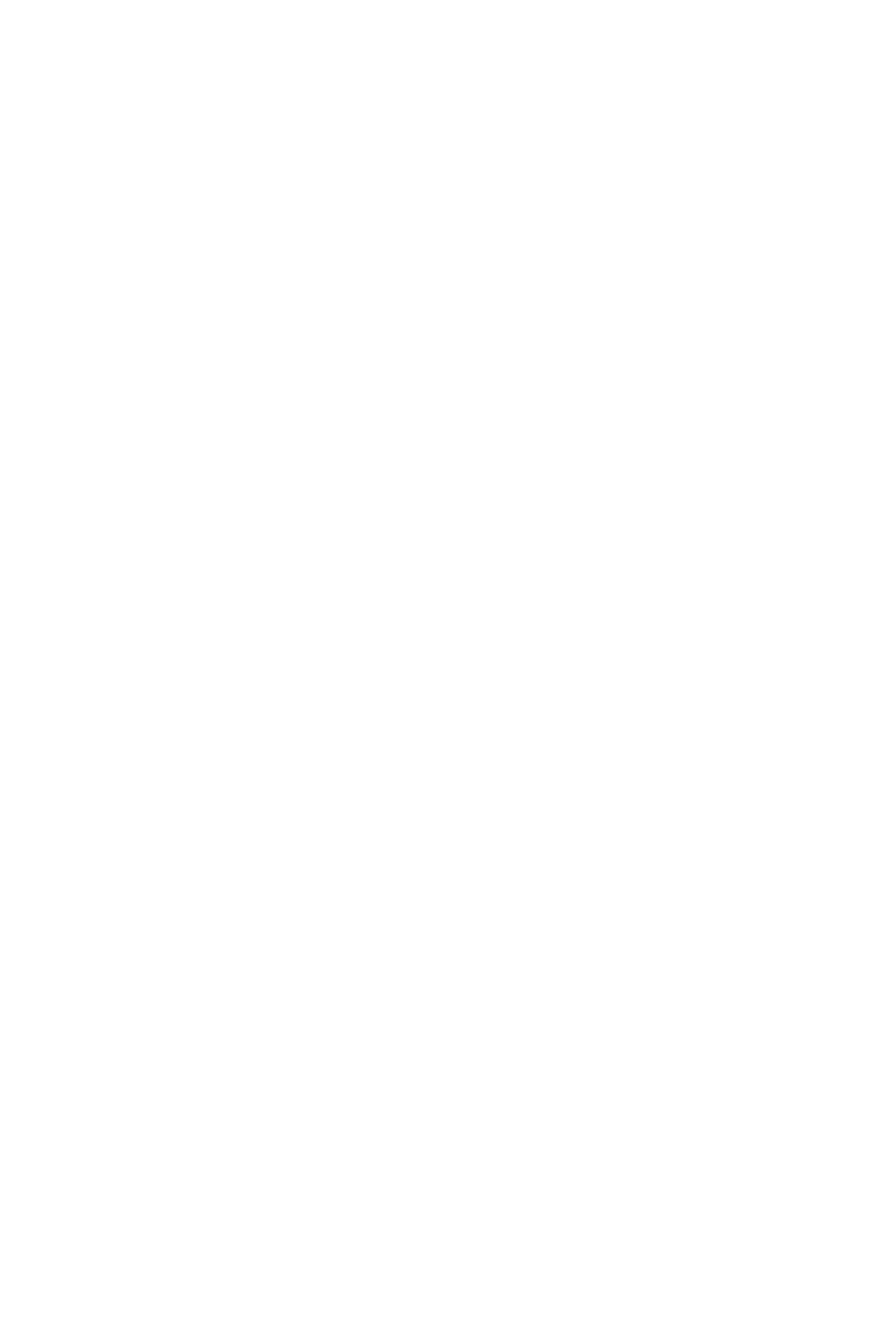
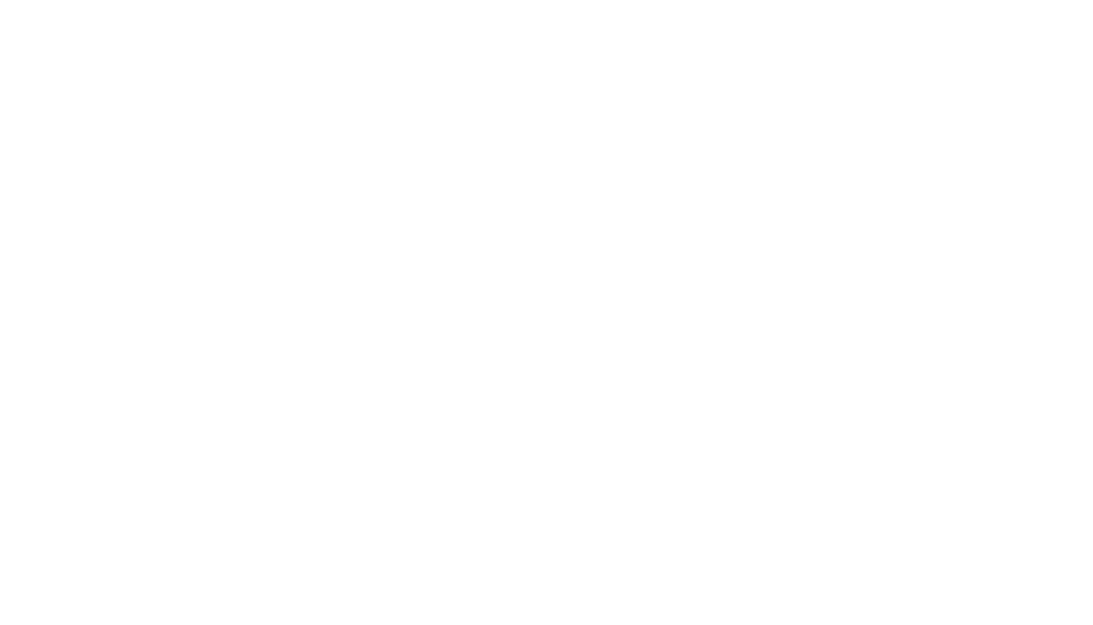
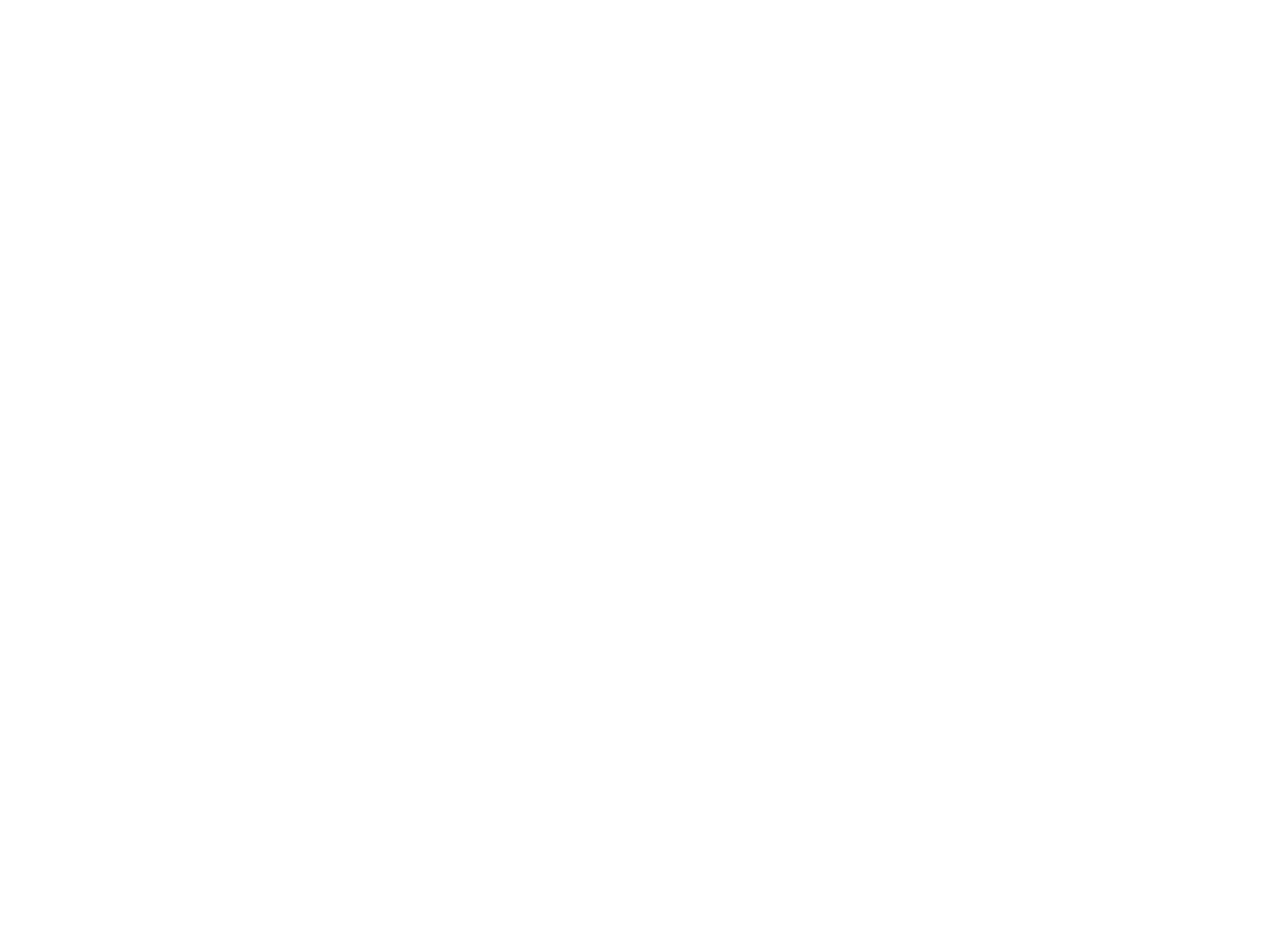
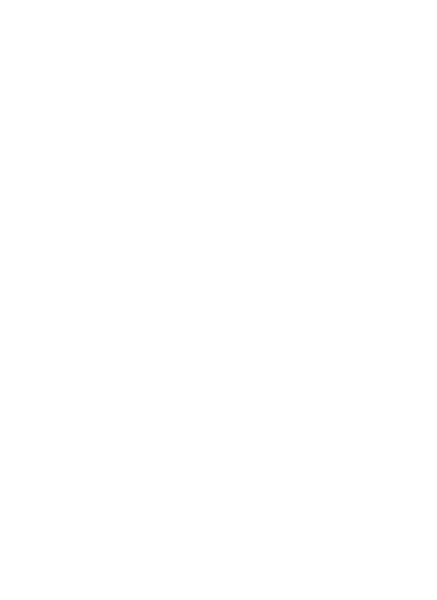
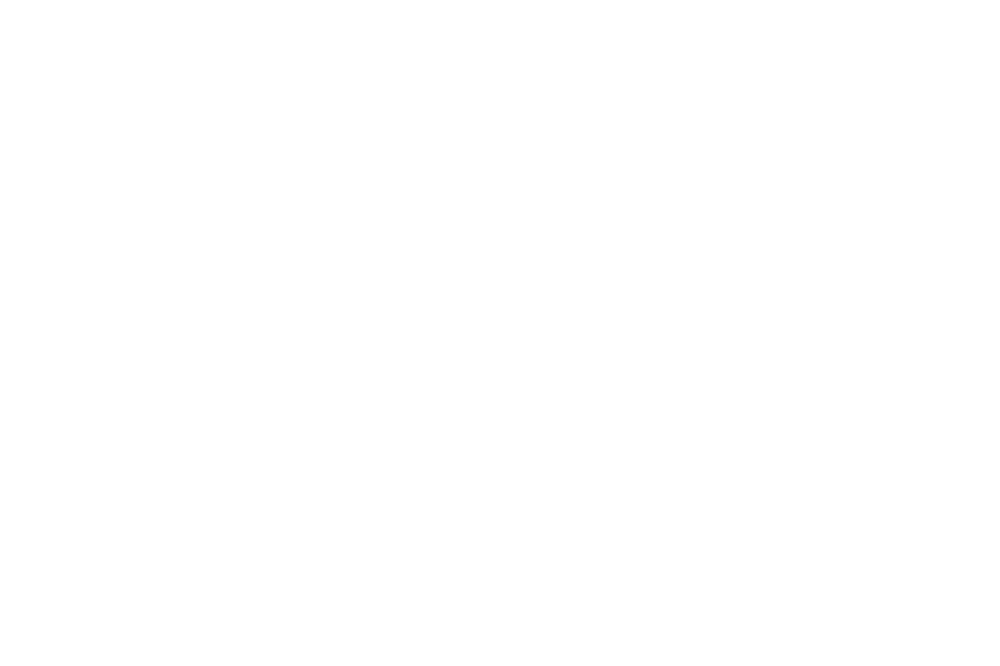
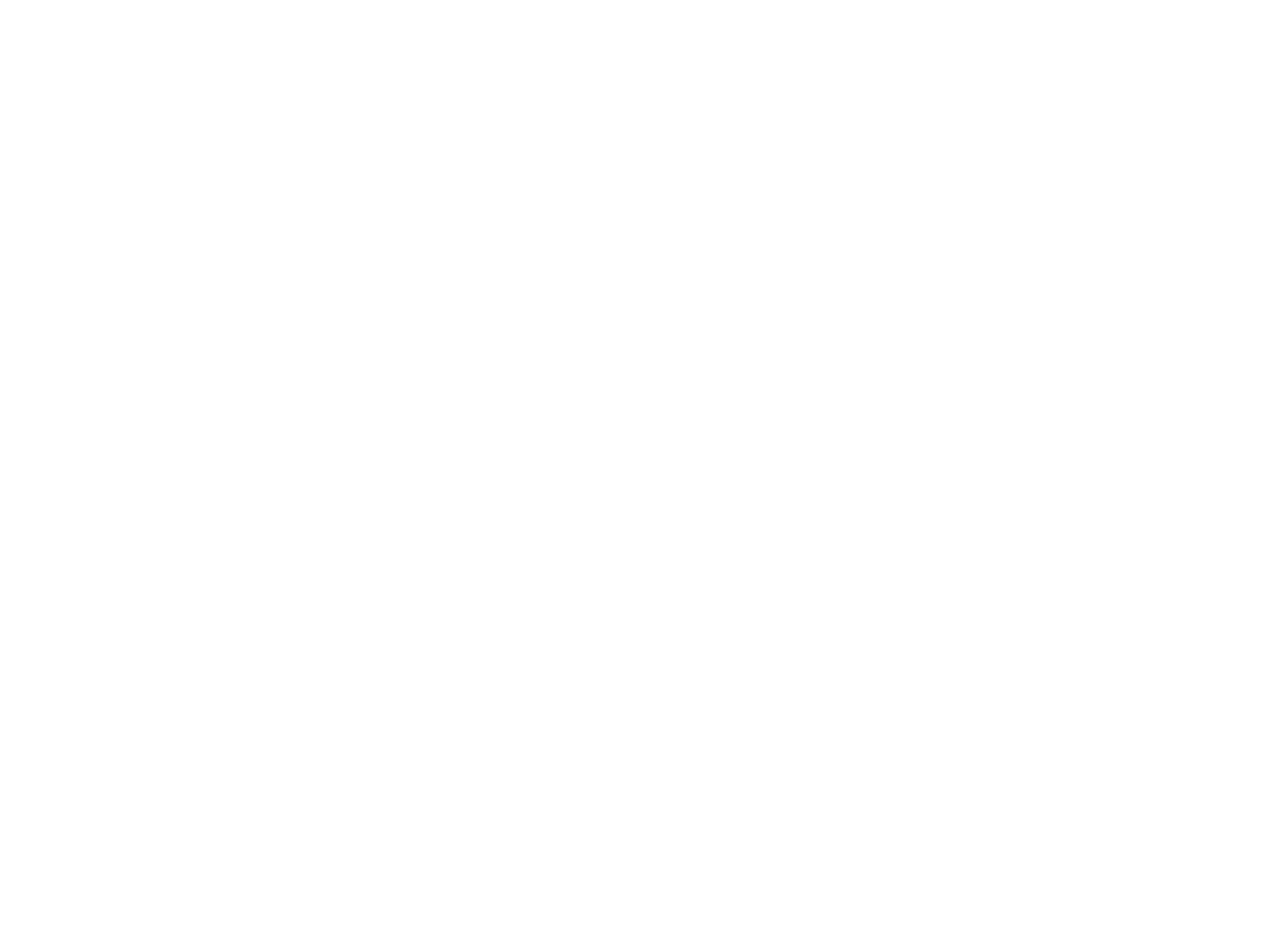
В Аттике сцена похищения Кербера, кроме фигур самого пса и Геракла, обычно также включает в себя фигуры Гермеса, Афины и/или Персефоны.
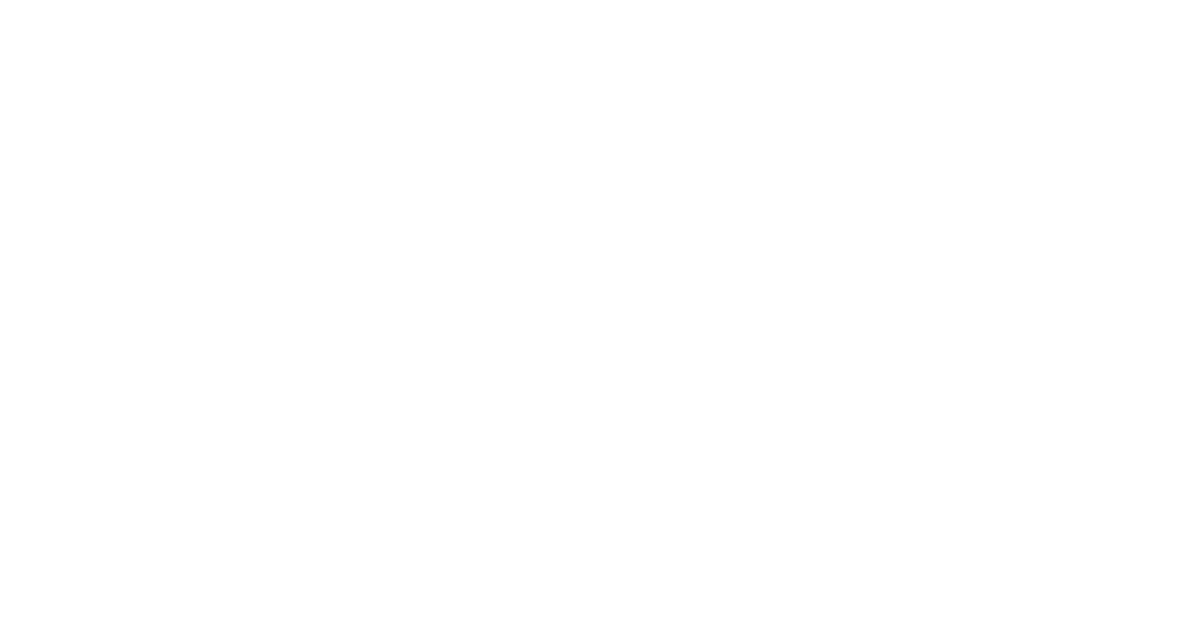
Гидрия. Цере. 530–520-е гг. до н.э. Мастер Бусириса. Лувр
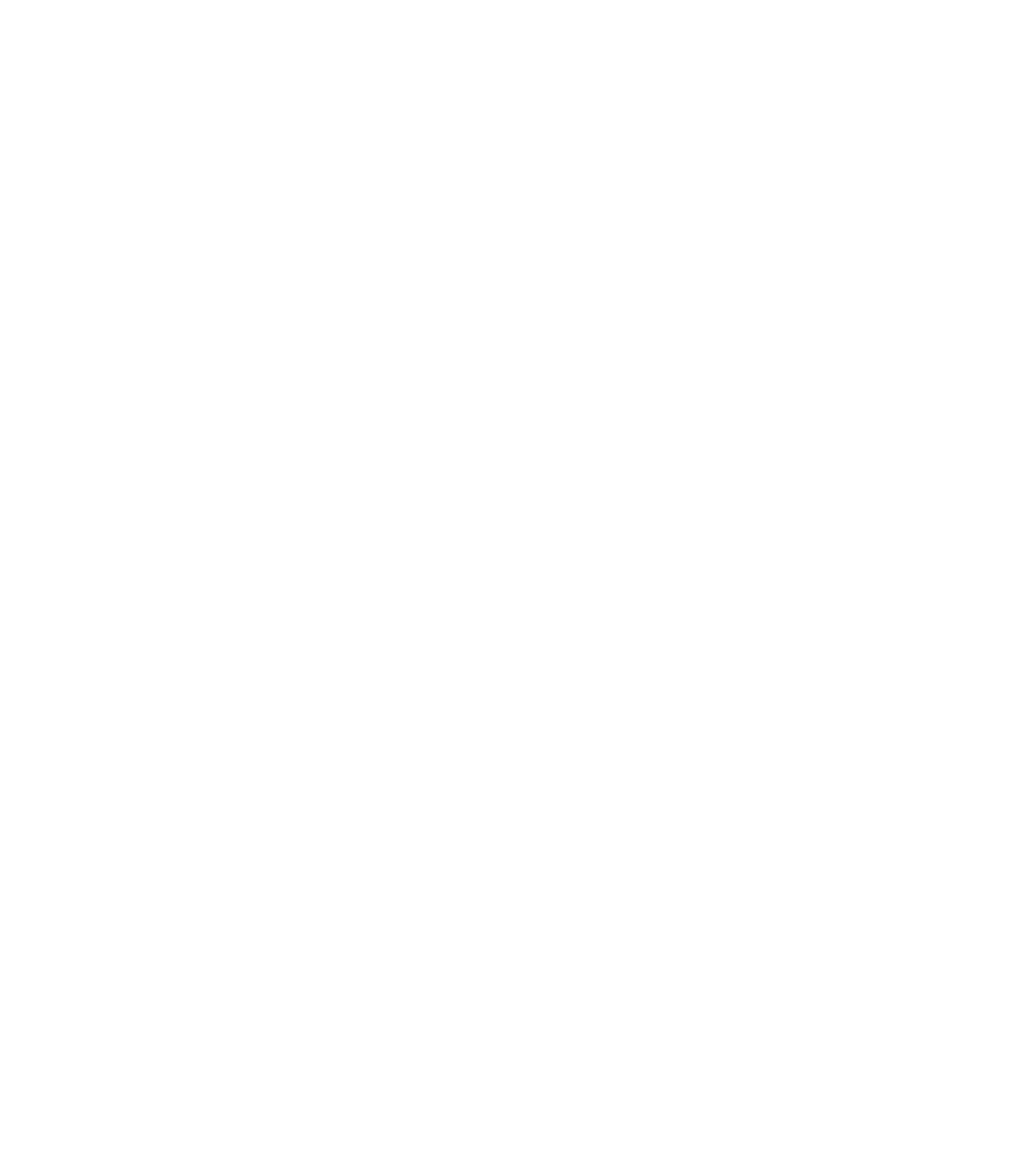
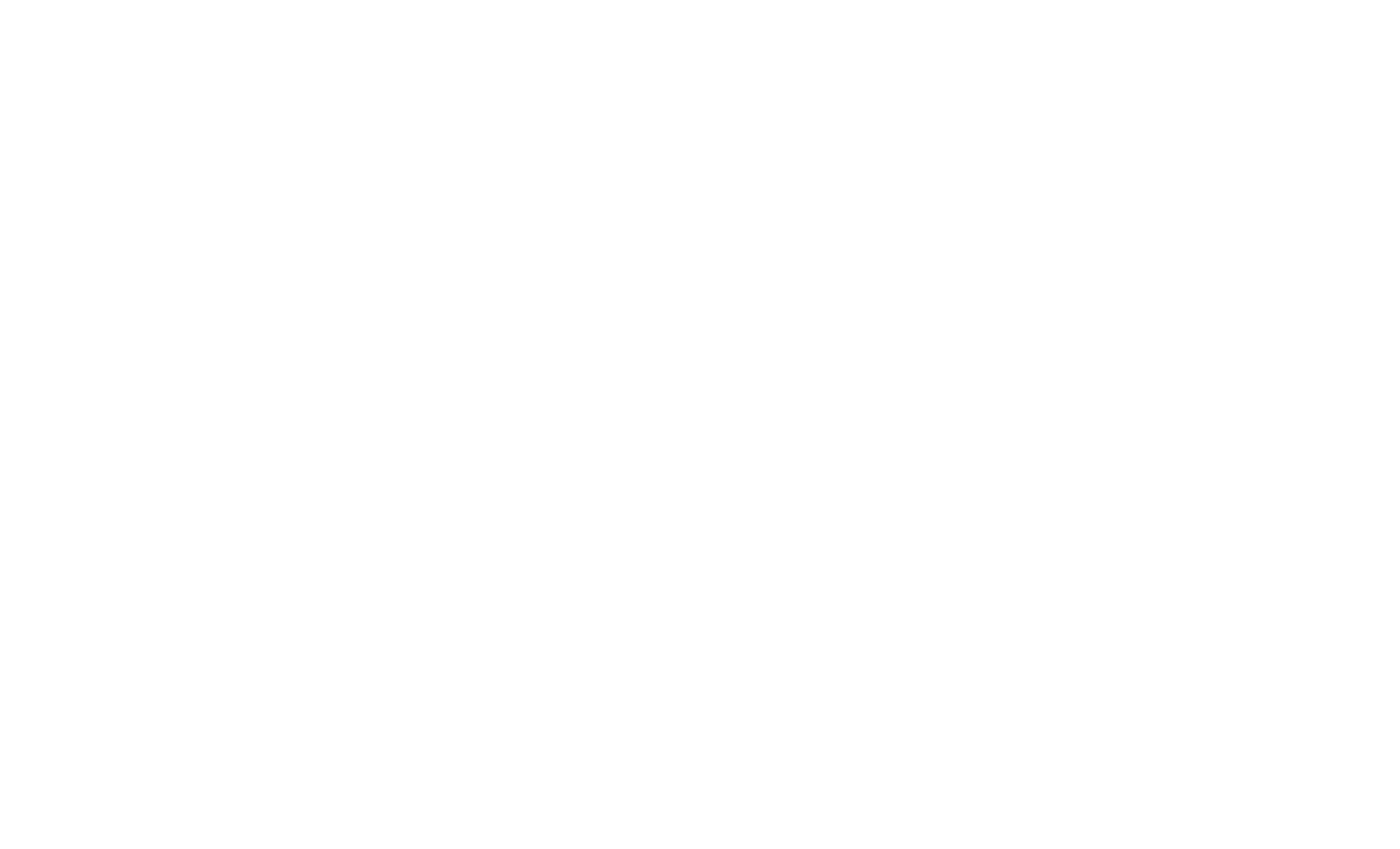
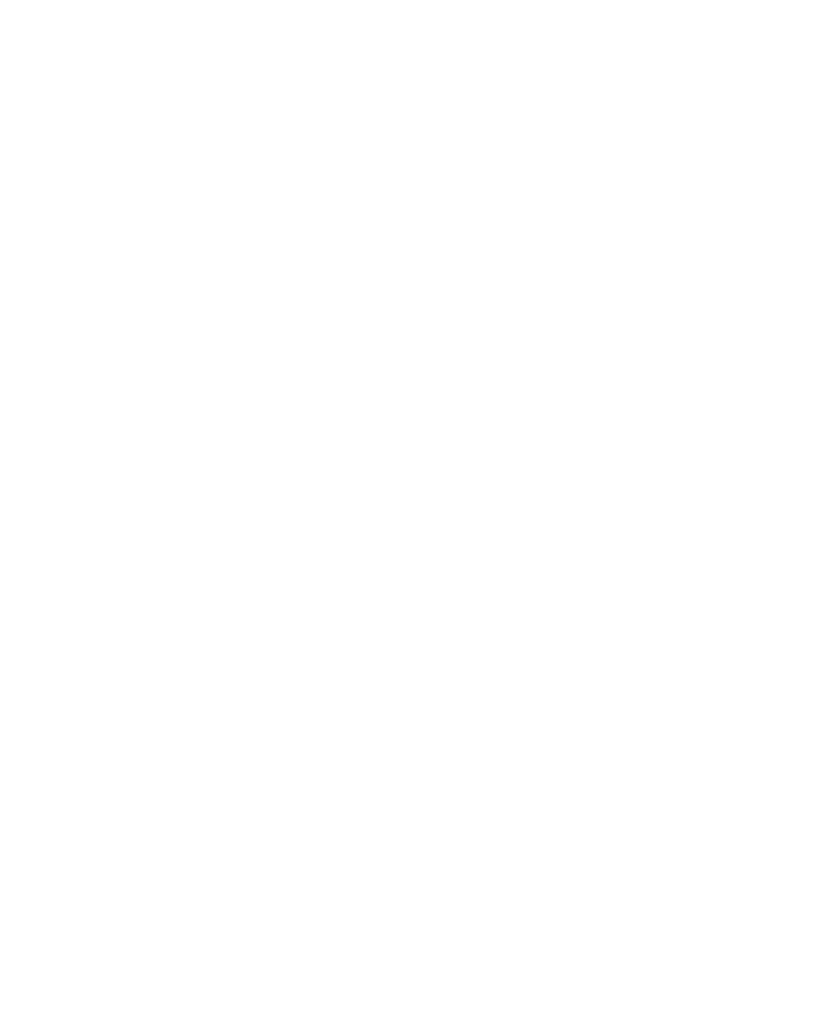
Также в росписи блюда Мастера Подземного мира Кербер представлен бегущим перед колесницей Аида, похитившего Персефону и везущего её в мир теней.
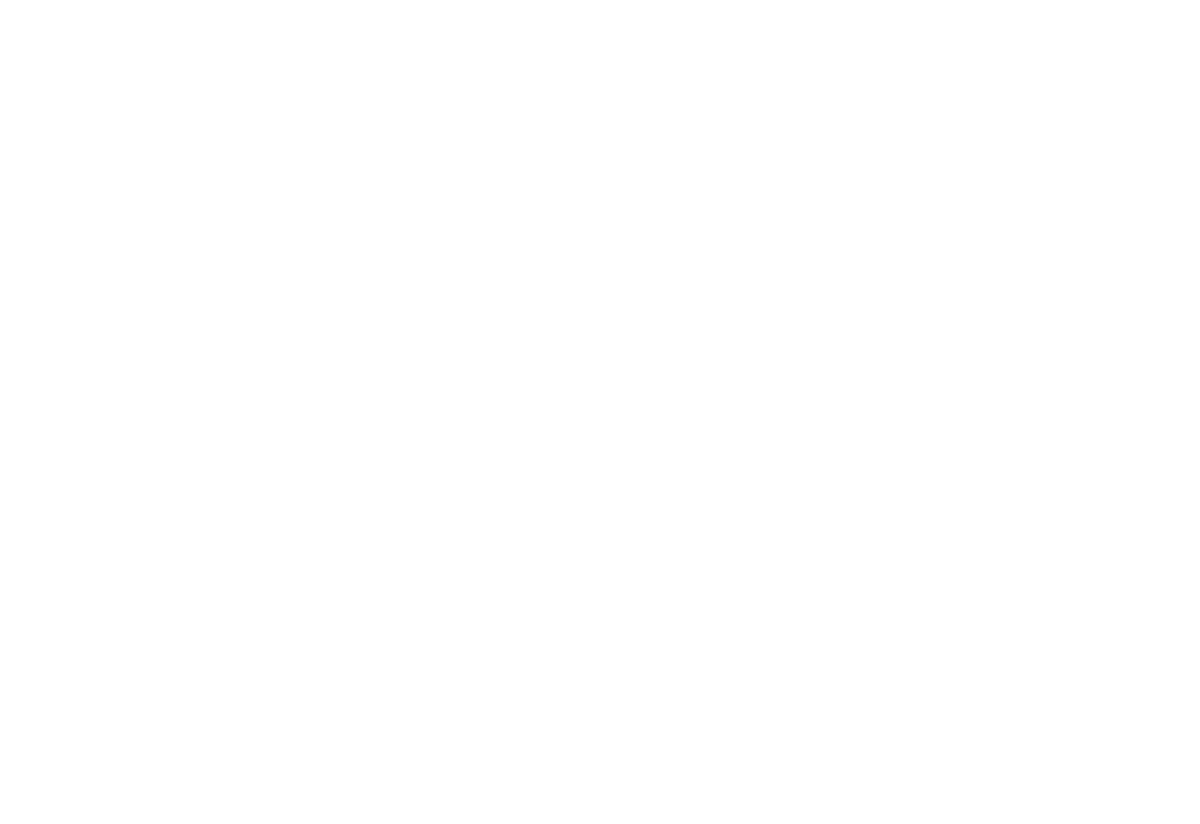
Кратер с волютами. Апулия. 350–325 гг. до н.э. Мастер Дария.
Музей искусств Толидо
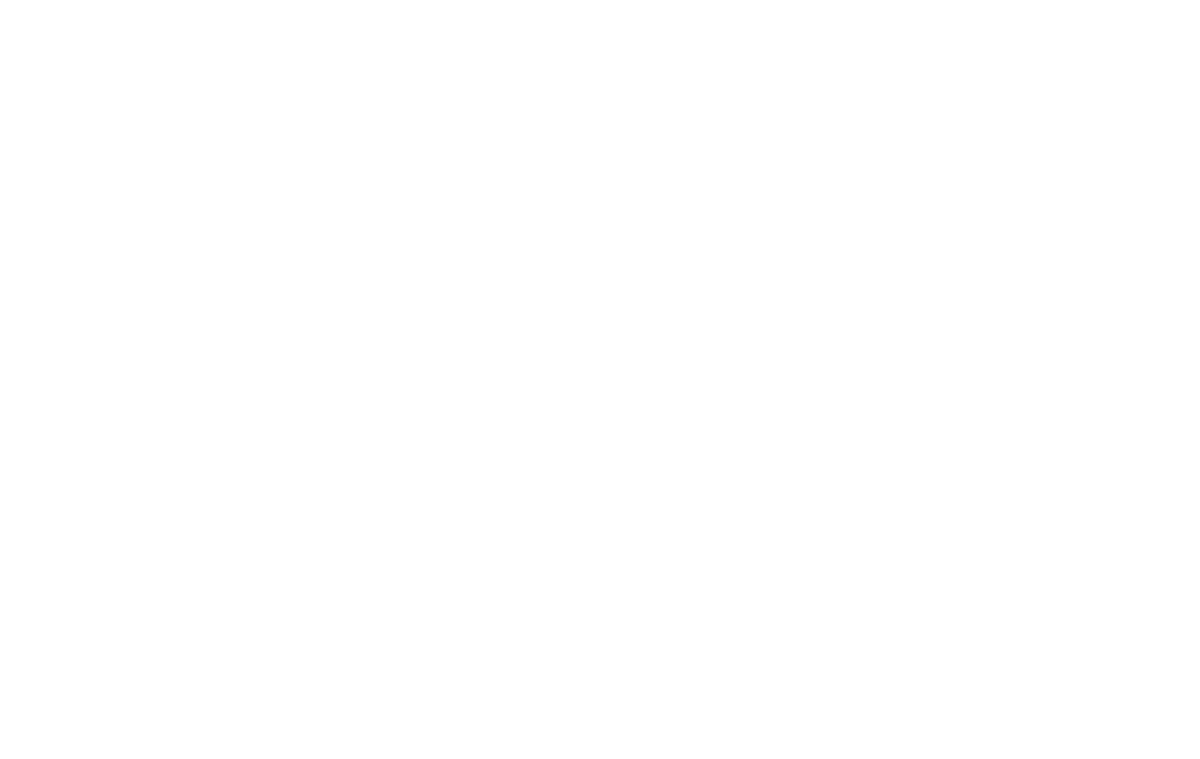
Ойнохоя. IV в. до н.э. Апулия.
Городской археологический музей во Фьезоле
Судя по всему, в ранних версиях этого мифа Кербер не играл особой роли, поэтому изображений эпизода усмирения или усыпления чудовища Орфеем в античном искусстве нет. Одновременно фигуры этих персонажей присутствуют лишь в композициях с дворцом Аида на апулийских вазах, но и там они не бывают объединены в одну сцену.
Существует также уже упомянутый миф о попытке похищения Персефоны Перифоем и Тесеем, согласно которому Аид приказал Керберу убить Перифоя, Тесей же был заключён в оковы (Plut. Thes. 31), из которых его позже освободил Геракл (Plut. Thes. 35; Paus. I 17.4).
Так, по мнению античных авторов, из всех, кто спускался в загробный мир, Кербер дружелюбно встретил только Вакха, пришедшего за своей матерью Семелой (Hor. Carm. II. 19; пер. Г.Ф. Церетели):
Став смирным, Цербер, лишь увидал тебя,
Твой рог златой, — хвостом стал повиливать,
Когда ж ты уходил, он ноги
Начал лизать и к лодыжкам жаться.
Отдельно стоит отметить, что в визуальных искусствах эпохи эллинизма Кербер стал спутником бога Сераписа, соединившего в себе черты нескольких божеств греческого и египетского пантеонов, в том числе и Аида. Отличительная черта иконографии Сераписа — особый головной убор в виде корзины, калаф. Он есть почти у всех дошедших до нас скульптур, представляющих некое божество в сопровождении Кербера (у одной оригинальная голова заменена поздней версией без калафа), поэтому их принято определять как изображения Сераписа — копии несохранившейся культовой статуи бога из Александрии, созданной скульптором Бриаксисом в III в. до н.э. На геммах и монетах также нередко изображали восседающего на троне Сераписа с мелкой схематичной фигуркой у ног, в которой с трудом, но всё же можно узнать нашего монстра.
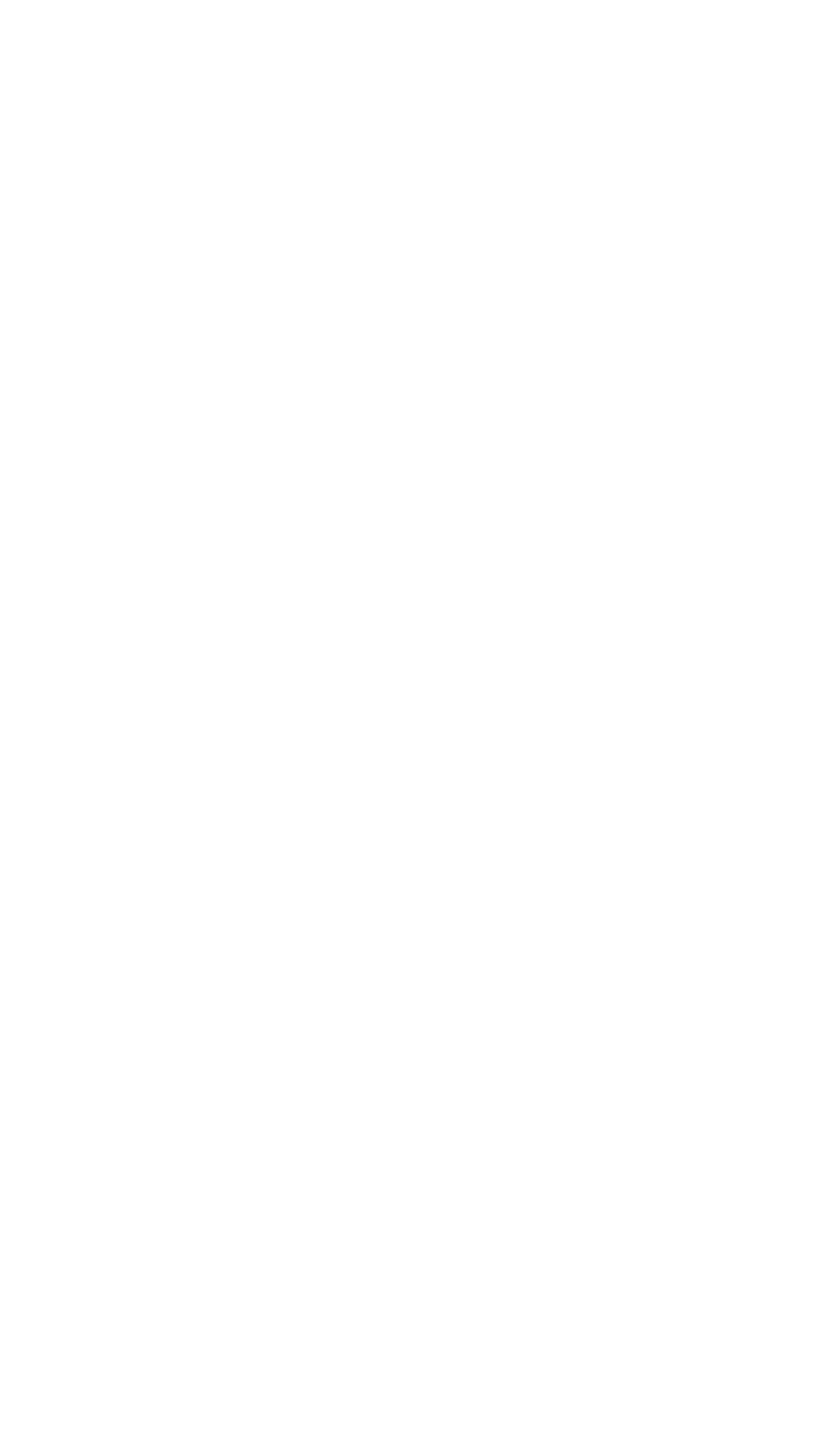
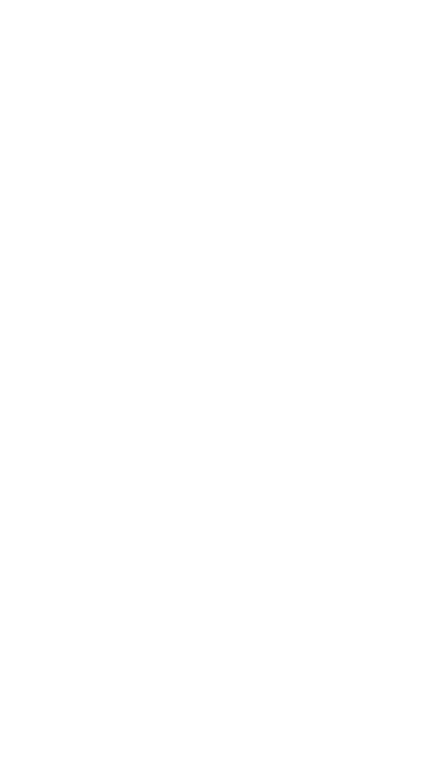
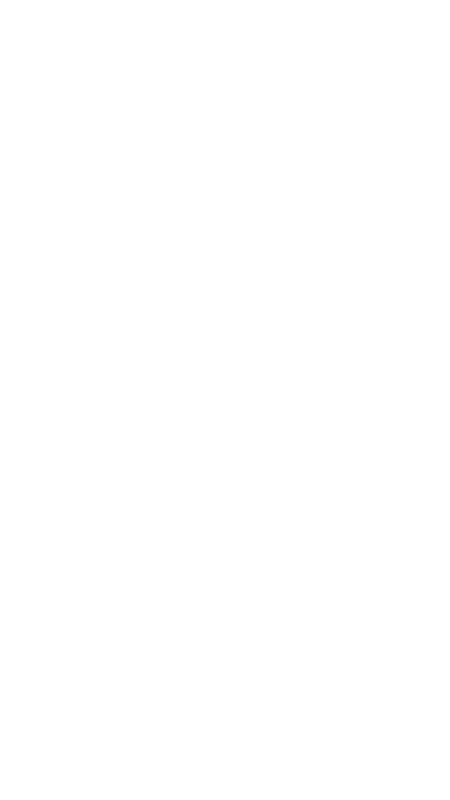
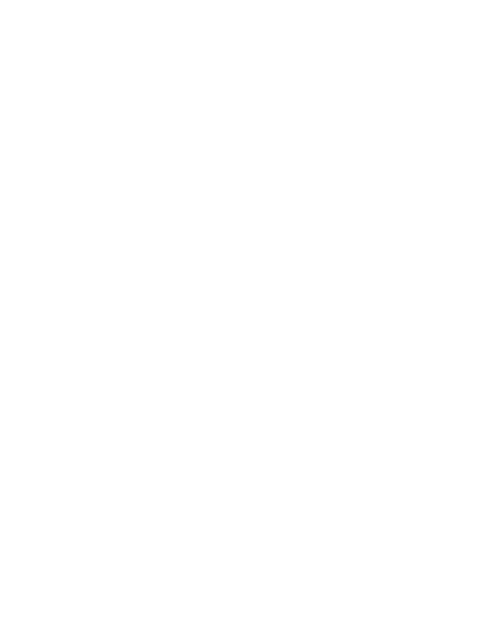
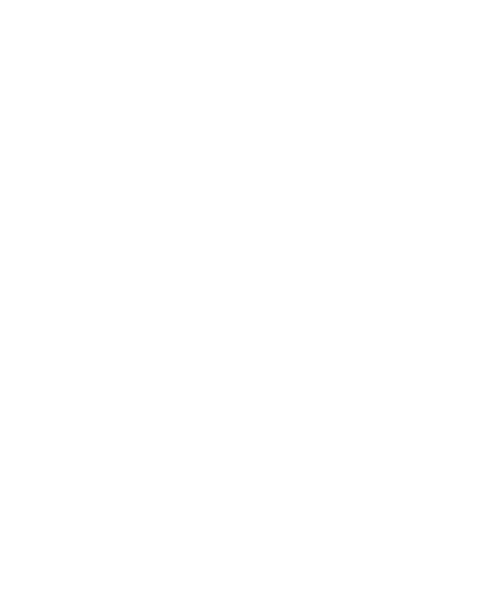
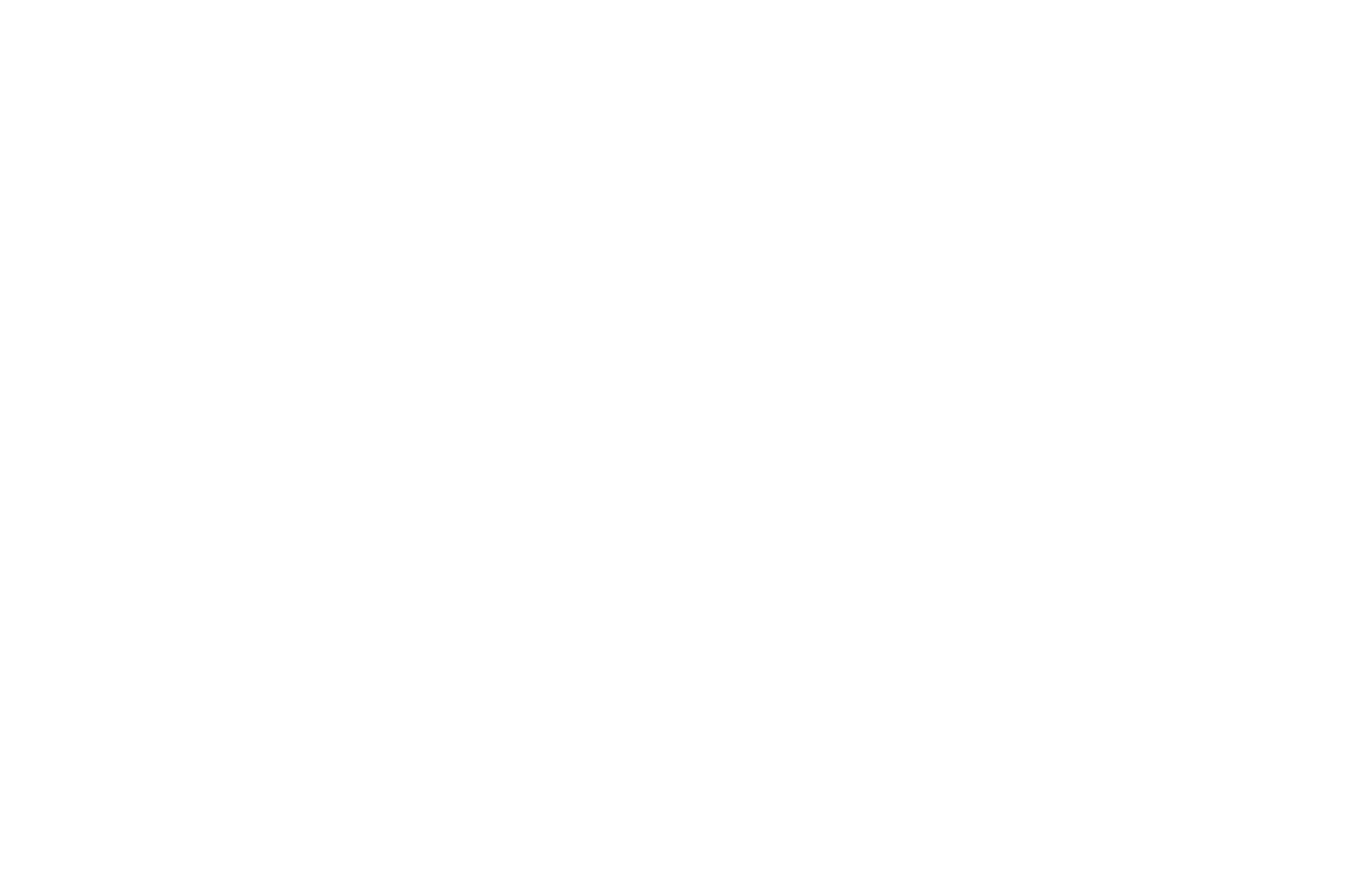
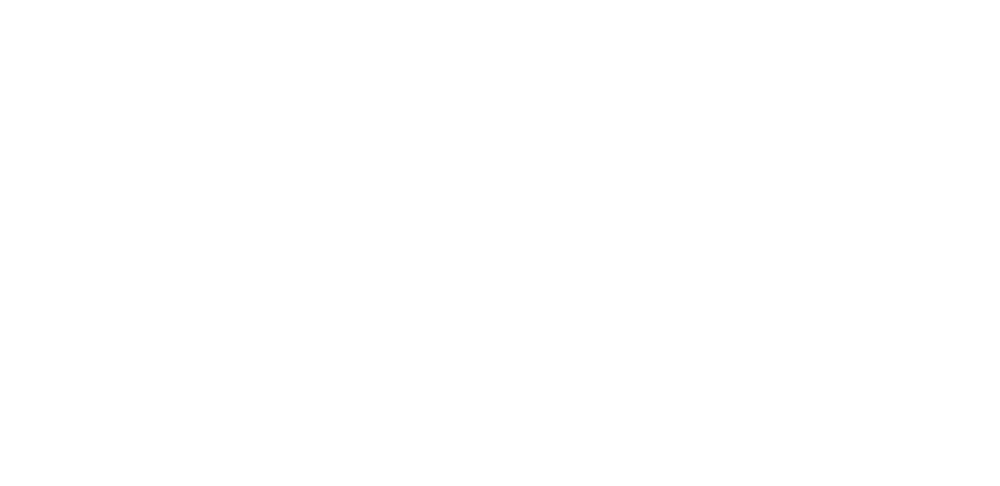
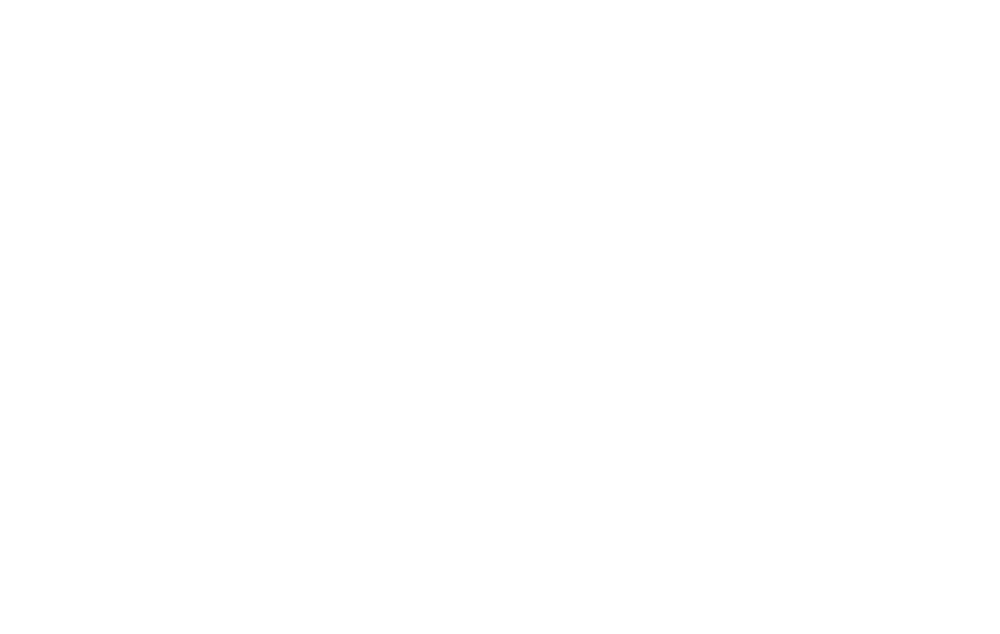
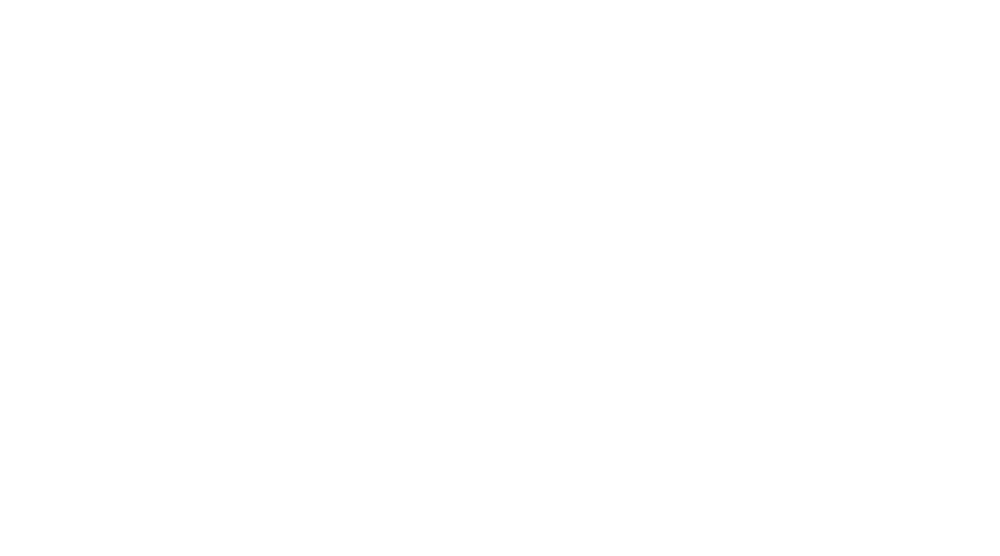
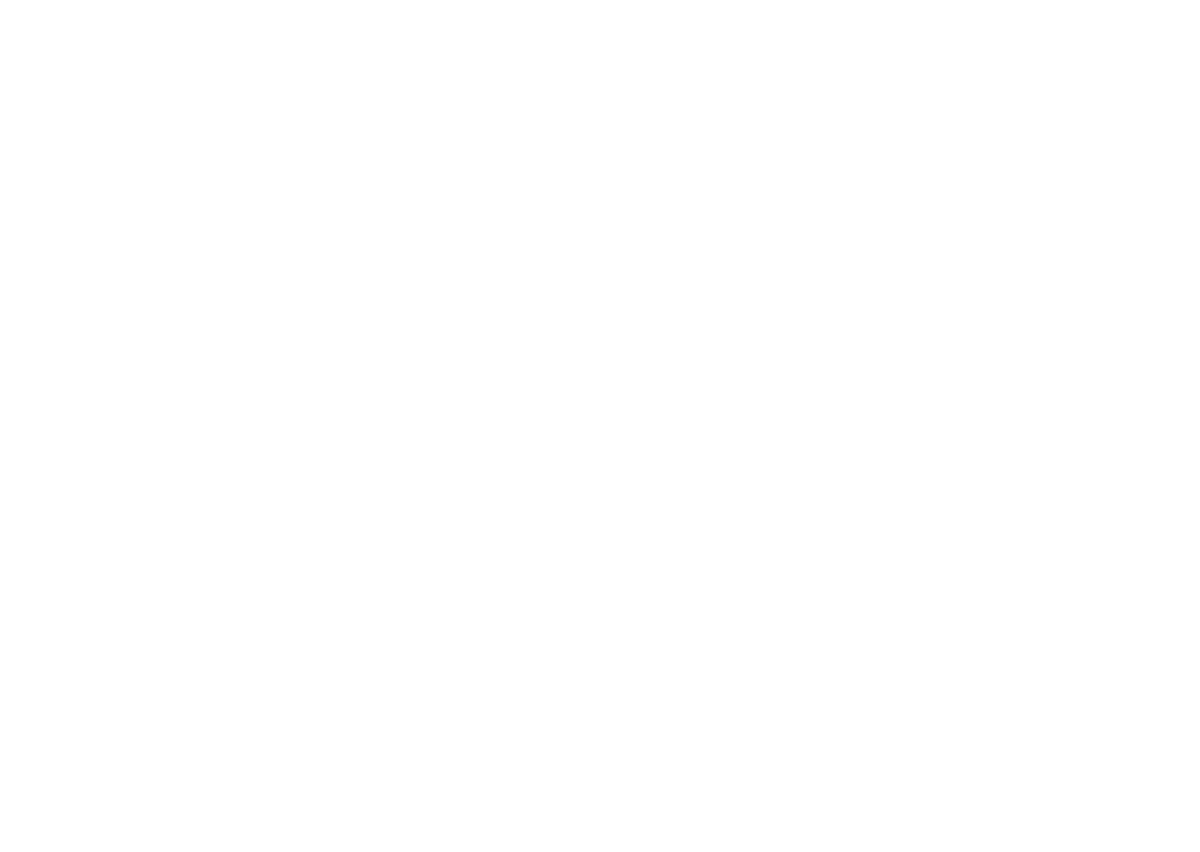
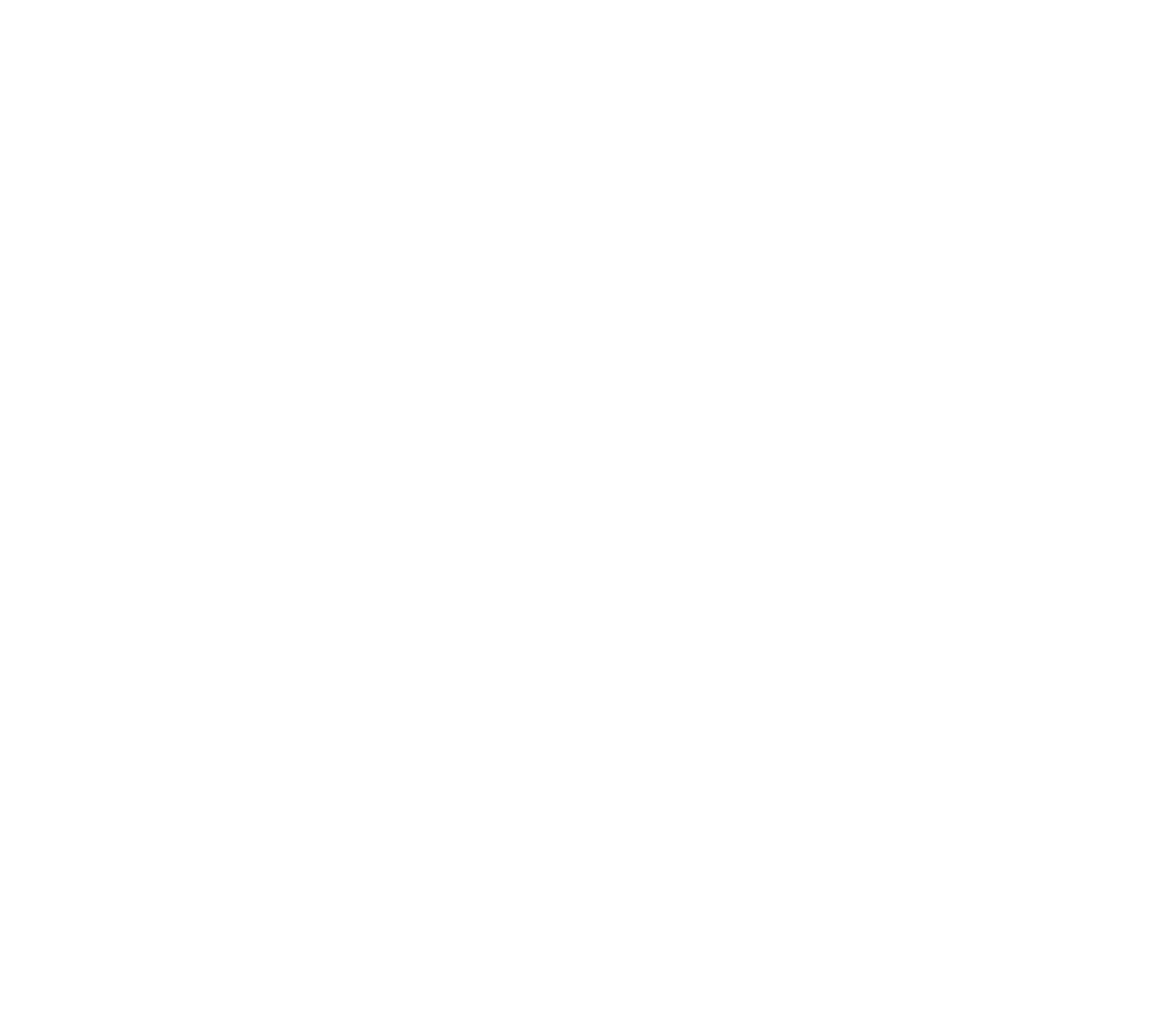
Трёхзевый Цербер, хищный и громадный,
Собачьим лаем лает на народ,
Который вязнет в этой топи смрадной.
Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в чёрной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвёт.
Наиболее известные иллюстрации к этой песне создали Уильям Блейк, Гюстав Доре и Сальвадор Дали.
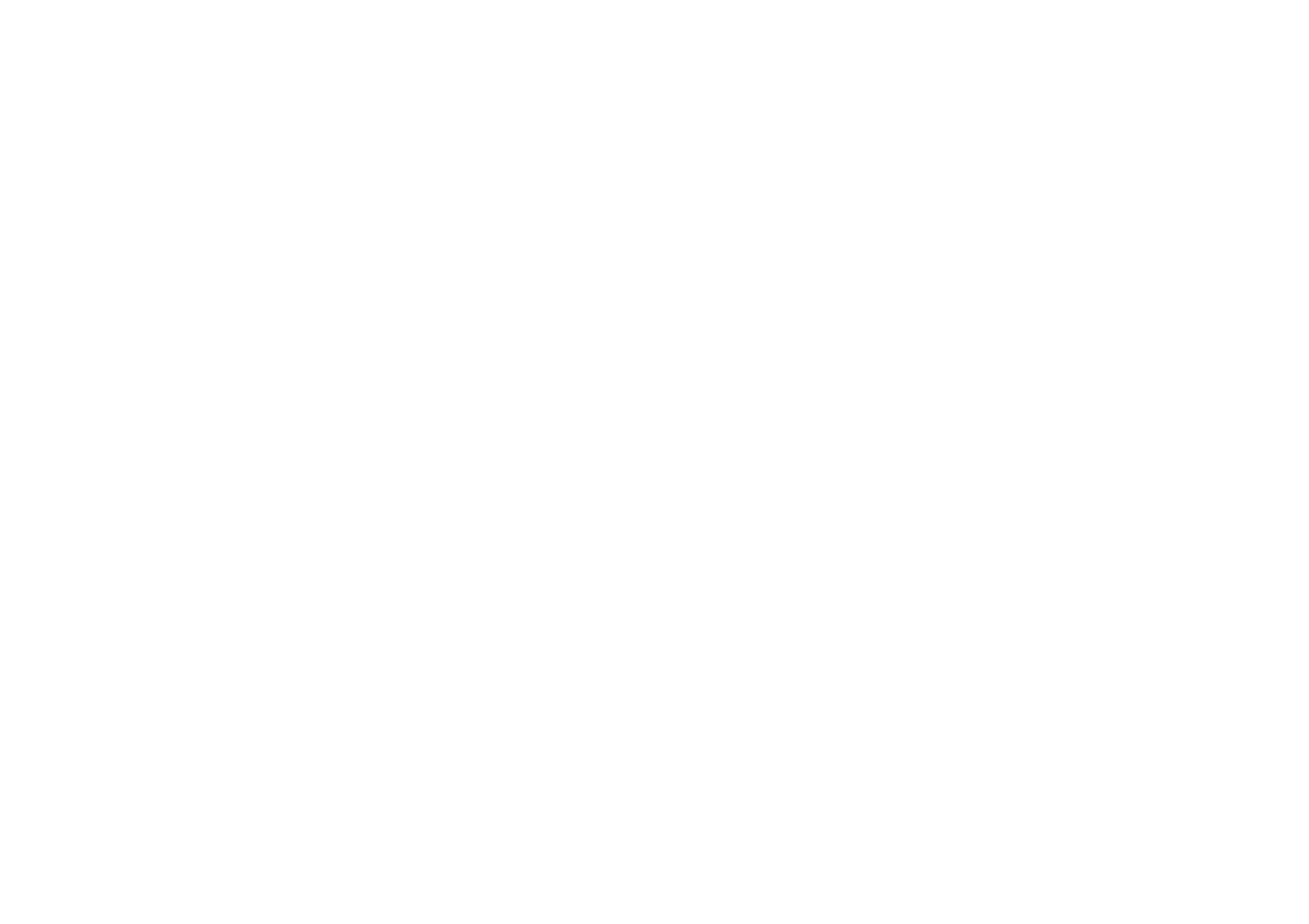
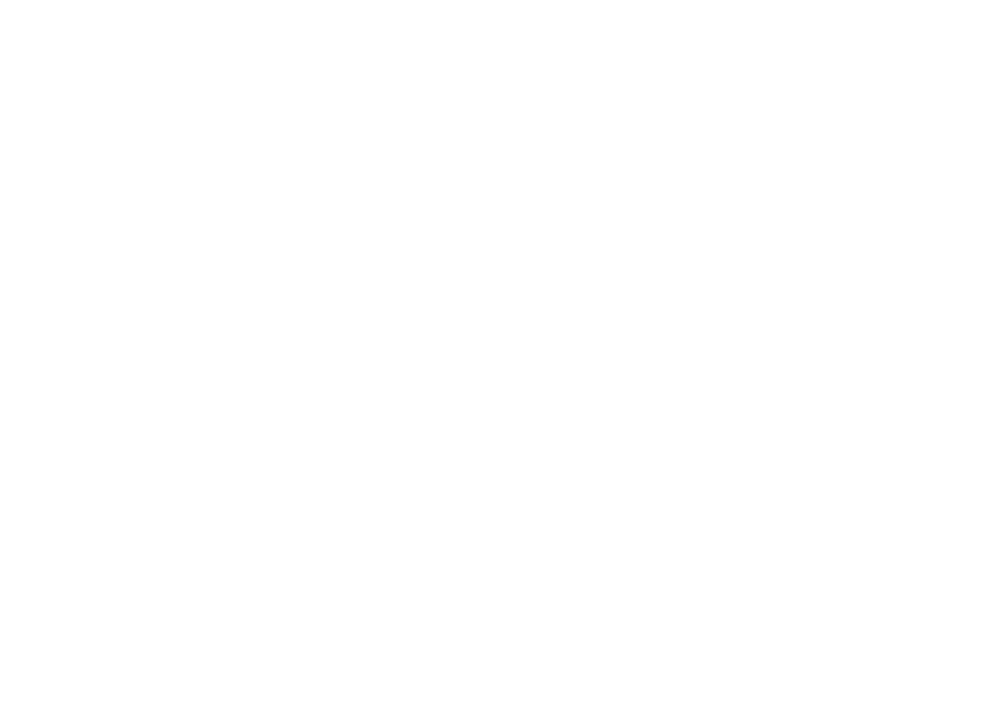
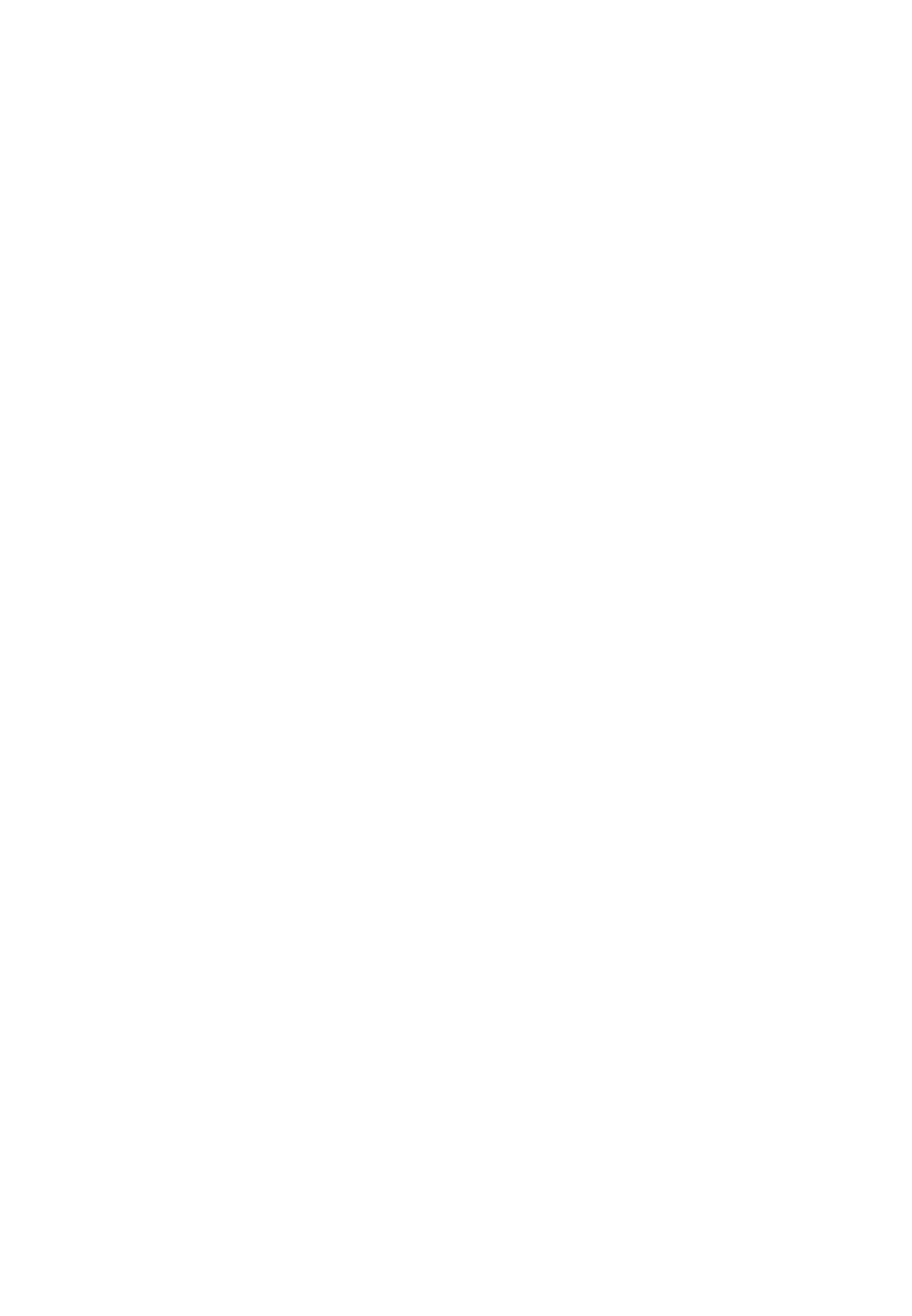
Mallory J.P., Adams D.Q. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World — Oxford: Oxford University Press, 2006. — P. 439.
Lincoln B. The Hellhound // Death, War and Sacrifice: Studies in Ideology & Practice — Chicago: The University of Chicago Press, 1991. — pp. 96–97.
The Dithyrambs of Pindar. Introduction, Text and Commentary. By Van Der Weiden M. J. H. Amsterdam, J. C. Gieben, 1991. — P. 88.
Cook J.G. Paul, Σκύβαλα, and the Boscoreale Cups. Svensk Exegetisk Årsbok. – Vol. 86. – 2020. – p. 96.