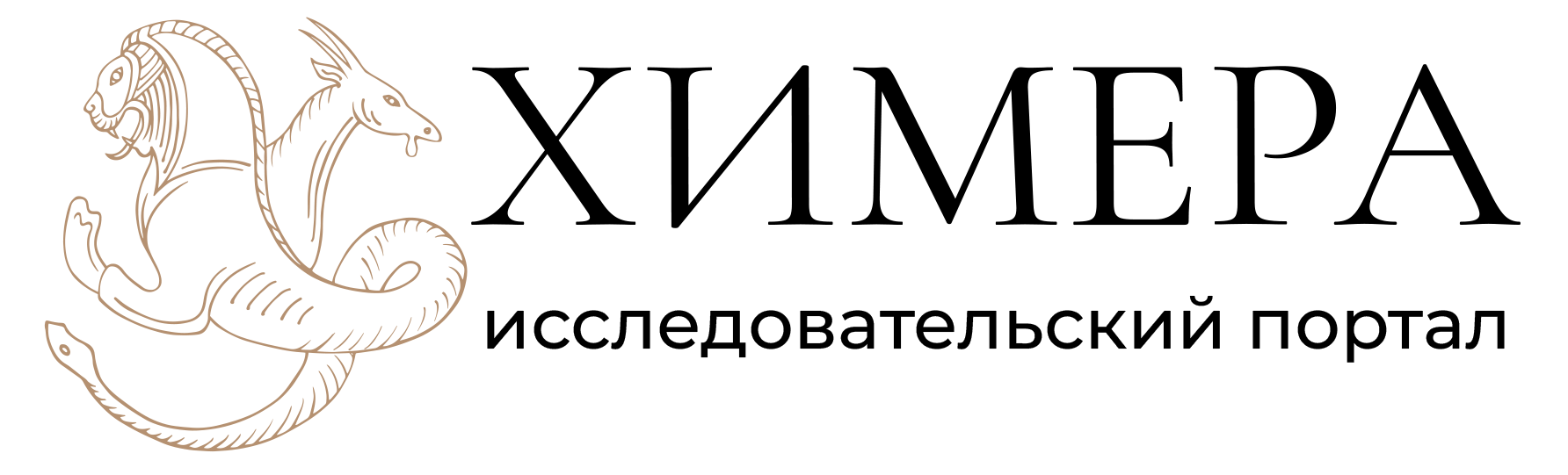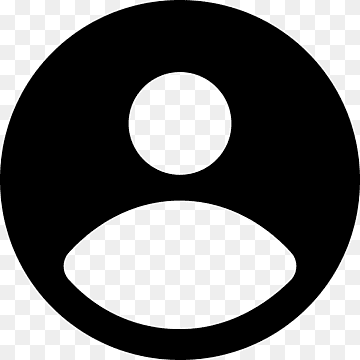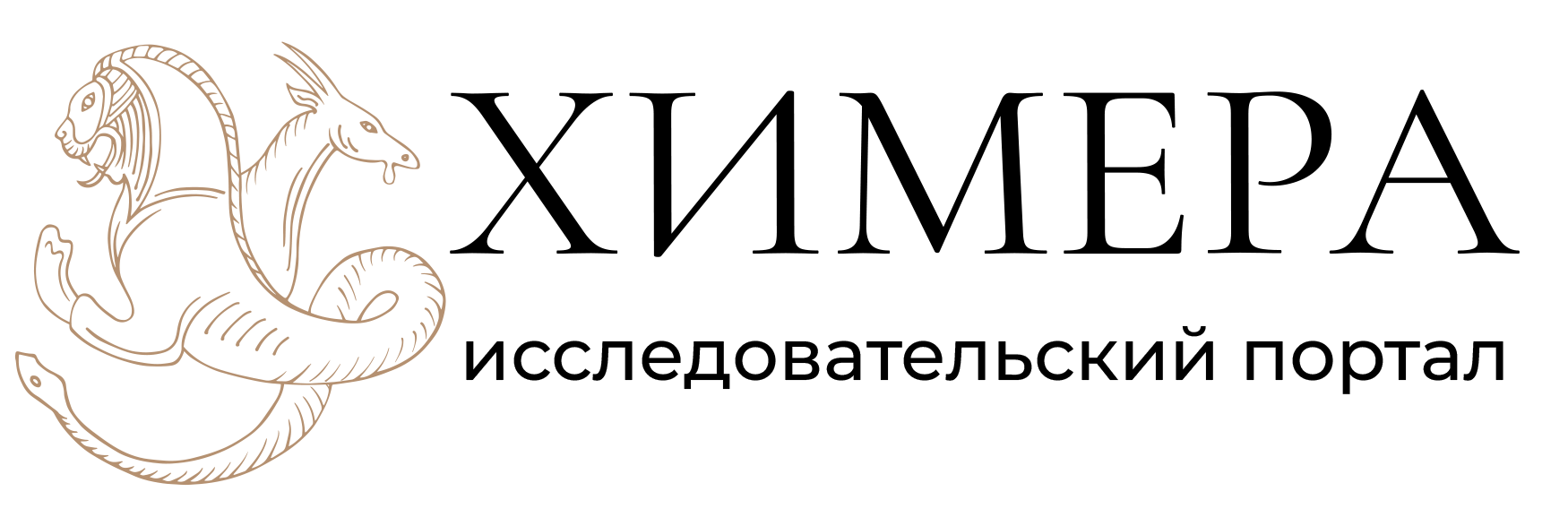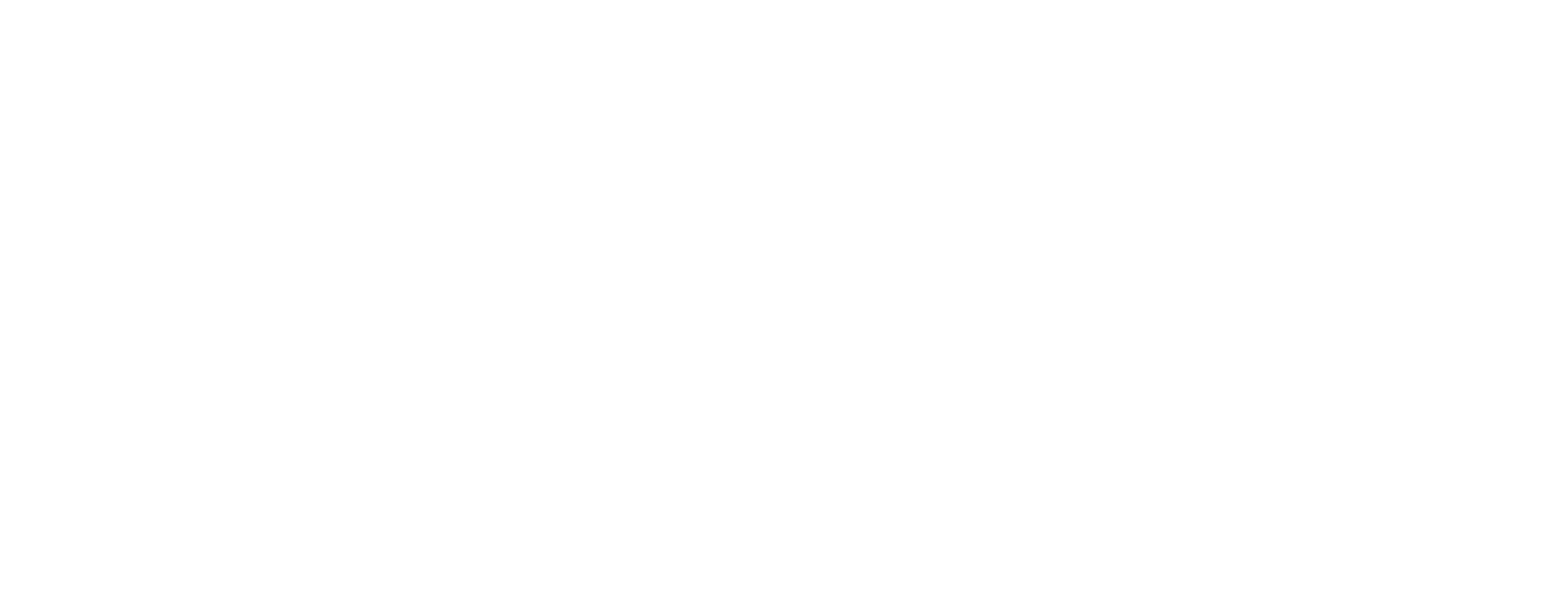Искусство античного Средиземноморья
За «Химерой» стоит семинар «Искусство античного Средиземноморья», который мы проводим в МГУ с 2014 года. Это наша научная лаборатория, а иногда в прямом смысле кухня.
10 октября 2024 г.
II.
Апофеоз и проклятие в римском официальном искусстве
Второе занятие спецсеминара в этом семестре было посвящено римскому искусству. В этот раз доклады были объединены темой образа императора в искусстве – с одной стороны, в архитектуре, в римское время нередко выражающей сложную идеологическую концепцию, а с другой, – в скульптуре, однако нашу докладчицу интересовало не возведение памятников, но их намеренное разрушение.
Первый доклад «Пантеон Агриппы и культ принцепса» сделала Юлия Кузнецова, подняв тему отражения культа императора в римской архитектуре, а именно в Пантеоне, одном из самых знаменитых римских памятников, который, однако, не так часто связывается непосредственно с образом правителя. На самом же деле он отражает сложную идеологическую концепцию, показанную докладчицей.

Гай Октавиан Август достиг абсолютной власти в 31 г до н.э., устранив всех своих конкурентов и завершив тяжелый период гражданских войн. В январе 27 г. до н.э. Октавиан официально возвращает республику Сенату и народу Рима. Именно тогда он выбирает себя имя Август – «божественный». Докладчица напомнила, что фигура императора была встроена в систему римского культа через аллегории Мира и Согласия, соединение праздников в честь богов с днем рождения императора, уподобление членов императорской семьи римскому пантеону, включение принцепса (и его семьи) в молитвы. Всё это выразилось в создании системы поклонения принцепсу, в учреждении его культа.
Скульптура императора Октавиана Августа
I век н. э. Музей Кьярамонти, Ватикан

Одним из мест культа принцепса, вероятно, стал Пантеон. Он был построен на Марсовом Поле, которое было посвящено богу войны Марсу, божественному отцу основателей Рима Ромула и Рема. В ходе своей административной реформы города Август начинает планомерно застраивать и развивать это место вместе со своими соратниками, среди которых особое место занимает Марк Випсаний Агриппа (63 – 11 гг. до н.э.). Именно он, как известно, строит первый Пантеон в 27-25 гг. до н.э.
Скульптура Марка Випсания Агриппы
Археологический музей Венеции

Судя по названию памятника, он должен был быть посвящен всем богам, однако ряд особенностей его расположения, конструкции и оформления показывают его связь и с образом императора. Так, Пантеон находится на расстоянии около 1 км. от мавзолея Августа, который был построен практически в то же время (32-28 гг. до н.э.), на одной оси с ним (отклонение составляет 4 градуса) и обращен фасадом на него. По оси мавзолей-Пантеон найдены следы мостовой из травертина, которые относятся ко времени династии Флавиев. Обелиски, установленные у входа в мавзолей в эпоху Флавиев и Адриана, строго перпендикулярны оси Пантеон-Мавзолей, а не центральной оси Мавзолея. Подобное расположение может свидетельствовать о том, что Пантеон был задуман как храм культа правителя и его богов-покровителей.
План Марсова поля в III-II вв. до н. э.
В центре храма должна была находиться статуя императора. Однако в 27 г. до н.э. Август принимает звание принцепса, поэтому, в соответствии с новой идеологией, по решению Августа, его статуя была перенесена из целы храма в пронаос, где была помещена рядом со статуей Агриппы, о чём мы узнаем от греческого историка Диона Кассия (155-230 гг.). Он отмечает, что в храме была поставлена колоссальная культовая статуя обожествленного Гая Юлия Цезаря, а также статуи многих богов, главными из которых были Марс и Венера, «родоначальники» династии Юлиев (Cass. Dio 53.27.3).
Докладчица отметила, что упоминаний о Пантеоне в источниках довольно мало. Плиний указывает, что некоторые из художественных украшений Пантеона были изготовлены Диогеном Афинским, в том числе кариатиды in columnis temple и статуи на фронтоне (Plin., Naturalis historia, 34.13, 36.38). Докладчица сопоставляет данные из источников с существующими реконструкциями Пантеона.
В треугольном фронтоне сохранились отверстия от бронзовой декорации. По одной из версий она могла быть связана с мифом об основателе города Ромуле. Подтверждением распространенности подобной иконографии может быть рельеф 14 - 68 гг., фрагменты которого находятся в Национальном музея Рима и в Ватиканских музеях. На рельефе высотой 1,16 м. изображен фасад храма с 10-колонным портиком. Во фронтоне представлена сцена с легендой о Ромуле и Реме: Марс и Рея Сильвия смотрят на кормящую близнецов волчицу, рядом – пастухи с овцами. Если это предположение верно, то таким образом Август обращался к своим божественным предкам, подчеркивая свою связь с основателями города. Все эти персонажи будут присутствовать в Алтаре Мира и Форуме Августа как отражение мифа о рождении государства, тесно сплетенного с семейной историей рода Юлиев.
Согласно второй версии декорации фронтона П. Занкера, на нем мог быть представлен орел Юпитера с гражданской короной в лапах. Как известно, Октавиан Август был награждён короной за предотвращение очередной гражданской войны. Она, наряду с лавром, деревом Аполлона и щитом доблести (клипеусом) становится новым символом Августа и эпохи. Однако подобный вариант декорации фронтона не имеет достаточного количества аналогов, способных подтвердить эту версию.
Помимо этого, Плиний Старший упоминает, что на колоннах Пантеона были помещены кариатиды (Plin., Naturalis historia, 34.13, 36.38). Кариатиды в эту эпоху являются довольно распространенным образом. Они присутствуют на Форуме Августа, посвященном Марсу Ультору, что подтверждает важность этого мотива в идеологической программе Августа. Впоследствии мы их увидим на вилле Адриана в Тиволи, в Канопе, посвященному любимцу императора Антиною. По мнению Юлии, есть вероятность, что эти кариатиды были сняты как раз с Пантеона Агриппы, когда Адриан реконструировал Пантеон. Эта версия представляется интересной, поскольку, действительно, после реконструкции Пантеона Адрианом описанные Плинием кариатиды больше не упоминаются и в интерьере Пантеона не присутствуют.
В заключении Юлия коснулась вопроса уровня пола Пантеона. Существовала гипотеза о том, что Пантеон мог изначально являться частью терм Агриппы. Однако исследования 1892 года доказали, что гиппокауста, характерного для терм, в этом здании на было. Зато был найден пол более раннего здания со следами мраморной декорации и даже остатки человеческого погребения. С северной же стороны, на глубине 9,11 м был найден так называемый портик Агриппы. Покрытие пола идет под уклон из центра наружу, что могло быть обусловлено необходимостью обеспечить дренаж поступающей из окулюса влаги и таким образом, свидетельствует в пользу мнения о круглом плане Пантеона эпохи Августа. Однако для определения конфигурации первоначального помещения археологических данных недостаточно, тогда как уклон покрытия мог образоваться из-за давления, вызванного строительством ротонды с ее массивными стенами и заставившего границы круга опуститься сильнее, чем его центр.
Таким образом, несмотря на ряд системных исследований за последние 200 лет, включая последнюю реставрацию купола Пантеона под руководством Джованни Беларди в 2000-е годы, вопрос о форме первоначального храма и его предназначении остается открытым. Среди многочисленных теорий о предназначении постройки наиболее вероятными докладчице кажутся версии о том, что это мог быть храм культа Августа или же храм в честь суверена и его богов-покровителей по эллинистической традиции.
Доклад Софьи Шадриной был посвящен римской практике забвения, искоренения памяти (damnatio memoriae) и ее отражению в искусстве.
Попытки «переписать историю», вычеркнуть из неё неудобного, «ненужного» человека, как правило, правителя, безусловно, не было римским изобретением. Подобные практики, когда уничтожаются или переиспользуются статуи, стираются надписи, известны в различных культурах. В качестве примера докладчица привела нарочно сбитые надписи царицы Хатшепсут в храме Джесер-Джесеру, а также поврежденные лица и атрибуты царя и его супруги в рельефах дворца Ашшурбанапала в Ниневии.
В римском мире, по словам Софьи, отмечается довольно широкое проявление этой практики, которая была названа историками damnatio memoriae – проклятие памяти. При этом в древности данного термина не существовало, однако практика, очевидно, была, хотя наше представление о ней остается неполным, поскольку, по всей видимости, специального ритуала данная процедура не подразумевала и в каждом отдельном случае набор практик мог отличаться. В докладе Софья попыталась определить этот термин и собрать возможные варианты проявления этой практики.
Damnatio – это в первую очередь осуждение по политическим мотивам, по обвинению в измене римскому народу. Как правило, речь идет о посмертном осуждении после свержения правителя или казни за измену государству. Единственное исключение – дочь Августа Юлия, которую сам Октавиан при жизни удаляет из дворца, запрещая ее хоронить в семейном мавзолее, тогда как её изображения, по-видимому, были убраны из официальных памятников.
Сама практика могла подразумевать стирание имён и разрушение образов, отмену государственных мероприятий, учреждённых осуждённым, запрет на проведение похоронных ритуалов и празднования дня рождения осужденного, уничтожение дома и родственников человека, что, однако, встречалось крайне редко. День смерти, наоборот, мог праздноваться. Однако, по-видимому, в каждом случае Сенат выносил особое решение и определял наказание, исходя из тяжести вины осужденного и учитывая мнение правящего императора. Таким образом, речь идет не о ритуальном процессе, но о различных практиках, которые Софья продемонстрировала на визуальном и текстологическом материале.
Данные показывают, что уничтожение статуй могло производиться разными способами. При этом, если египтян пугало забвение, которое должно последовать за уничтожением образа умершего и которое могло причинить человеку дискомфорт в загробном мире, то для Рима был важен момент телесности – причинение образу боли, разрушения, совершения над ним насилия, которое явно должен был испытать и сам умерший.

При этом способы нанесения увечий могли разниться. Плиний упоминает, что статуи Домициана разрубали топорами, причиняя им боль (Plin. Pan. 52). Иногда статуи топились в Тибре – например, статуя Мессалины (или Клавдии Октавии) из Ватиканских музеев имеет следы долгого пребывания в воде. По словам докладчицы, данная практика могла иметь истоки в религиозных ритуалах ранней римской истории. Так, согласно Варрону (Varro, Ling. VI), во время церемоний аргиев с моста сбрасывались тростниковые куклы, заменяющие практику человеческих жертвоприношений.
Мессалина или Клавдия Октавия
Музеи Ватикана, инв. 1814

Со времен Северов всё больше изображений подвергается именно разрушению, а не удалению. Так, статуя Юлии Маммеи, хранящаяся в музее Осетии, была использована в качестве блока брусчатки мостовой, куда ее очевидно намеренно положили лицом вниз. При этом монеты с образом императоров, по словам Софьи, не выводились из использования – это было нерационально, хотя источники упоминают приказы о переплавке. Однако некоторые монеты с изображением императоров носят на себе следы попытки уничтожения образа, но это, вероятнее всего, связано с личной инициативой владельца.
Юлия Маммея
Музей Осетии, инв. 26
В первую очередь уничтожались не только статуи, но и надписи, упоминавшие имя и деяния человека. Так, на арке Септимия Севера было сбито имя императора Геты. Докладчица отметила противоречивость практики уничтожения памяти о человеке. Она направлена на забвение, однако удаление того, что люди привыкли видеть, как и следы уничтожения, не могли остаться не замеченными. Современники должны были помнить, что было написано и какие статуи были убраны.
Интересно, что несмотря на осуждение памяти, например императора Нерона или Домициана, их портреты дошли до нас. В свою очередь после убийства Калигулы, его память не была официально осуждена (Cass. Dio. 60. 4. 5-6), но портреты были убраны, хотя многие дошли до нас в прекрасном состоянии.
Еще одним способом избавления от образов неугодных правителей было переиспользование их статуй. Нередко в таких случаях признаки переиспользования оказываются едва заметными, однако голова часто становится пропорционально меньше или несколько приплюснутой. Для сравнения можно рассмотреть статую Калигулы, переделанную в Клавдия, из Карсул и обычную статую Калигулы из Музея изящных искусств Вирджинии.

Кроме того, в таких случаях нередко происходит несовпадение уровня качества – голова сделана более тщательно, нежели тело, как видно на статуе Марка Галкония Руфа из Помпей, хранящейся в Археологическом музее Неаполя.
Скульптура Марка Галкония Руфа
Археологический музей Неаполя, инв. 6233.

Очевидно, что мастера, вынужденные переделывать статую, оказываются ограниченными существующими размерами и особенностями физиогномики изначально портретируемого, поэтому им часто приходилось идти на компромисс, в связи с чем портреты нередко оказываются менее похожими на принятый образец, чем изображения, сделанные из нового мраморного блока. Здесь можно привести в пример бюст Домициана, переделанный из Нерона.
Однако переиспользование и разрушение статуй отнюдь не всегда является результатом практики damnatio. Напротив, Софья отметила, что подобный случаев меньшинство. Статуи могли переделываться в результате естественных разрушений или в результате неактуальности в точки зрения идеологии: так, Гая Цезаря нередко переделывали в Нерона.

Иногда это связано с более сложными идеологическими задачами – желанием вписать себя в череду хороших императоров, показать себя как продолжателя их деянии, нежели с желанием избавиться от образа конкретного человека. Ярким примером, приведенным Софьей, является арка Константина, в которой многие рельефные изображения взяты из более ранних памятников, в первую очередь эпохи Антонинов. При этом голова Марка Аврелия переделывается в голову Константина, тогда как остальные, даже портретные образы (например, Антиноя), остаются нетронутыми.
Арка Константина
312-315 гг.

Более того, известно, что и знаменитый колосс Константина был переделан из статуи Адриана. В данном случае, вероятно, причиной стал экономический кризис, хотя в это время продолжается масштабное строительство.
Портретный бюст Адриана и голова колоссальной статуи Адриана/Константина
Prusac M., 2010. sc 1

Тем не менее экономический фактор – недостаток материала для статуй – безусловно играл свою роль. Существует немалое количество примеров переделки портретов из элементов других скульптур, и не только человеческих, а также из частей более крупных статуй.
Таким образом, в докладе Софьи был поднят целый ряд вопросов, связанных с бытованием портретных статуй в Древнем Риме. Очевидно, что в представлении римлян образ обладает особой силой и способностью влиять на посмертное существование человека, что нашло отражение в практике damnatio. Благодаря собранному Софьей материалу становится понятно, что damnatio – это не конкретный указ или унифицированный комплекс мер, но набор практик, которые могли варьироваться в зависимости от ситуации. В то же время налицо и некоторая относительность идеи незыблемости, сакральности образов, которые могли уничтожаться и переиспользоваться не в результате проклятия, но, напротив, для демонстрации преемственности, а также в силу экономических причин или в связи с неактуальностью старых идей.
Отчёт занятия записала Катя Михайлова